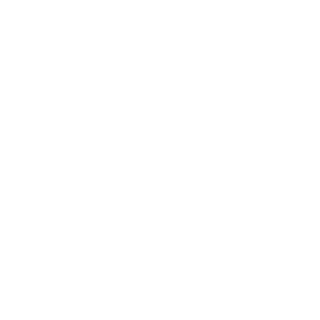Наше время
Три околотеатральных разговора, попавших в поле внимания автора
Текст: Анастасия Глухова
Фото: Anya Ustynyuk
1
В насыщенный московский театральный вечер, когда все столичные сцены бурлят событиями, в камерном черном зале новой сцены МХТ всемирно известный шекспировед Алексей Бартошевич рассказывает небольшой заинтересованной аудитории о том, как Московский Художественный театр проживал 1917 год. Сквозь сугубо историческую тему остро прорезается неуловимая пронзительная тональность разговора, которая заключается не столько в теме лекции, сколько в личности рассказчика.
Перед глазами Бартошевича, «мхатовского ребенка», как он сам себя называет, прошла практически вся история МХТ, он застал еще великих мхатовских стариков. Бартошевич, комментируя, зачитывает фрагменты из писем и мемуаров актеров и людей, близких к театру. Из этих фрагментов складывается страшная картина голода, страха, неизвестности — гражданской войны. «О спектаклях не может быть и речи», упоминается в одном из писем. Затем, как-то незаметно для самого себя, Бартошевич все больше и больше уходит в собственные воспоминания об отце и деде. (Алексей Вадимович — внук великого актера Василия Ивановича Качалова, а сын Качалова — отец Бартошевича — Вадим Шверубович, возглавлял постановочный факультет школы-студии МХАТ и был одним из основателей «Современника».)
Так вот, Бартошевич начинает уходить в воспоминания о собственном детстве, об отношениях с отцом, о белогвардейской молодости Вадима, о его отношениях с Качаловым. Все, и сюжет и сам рассказ, предельно пронизано интеллигентным тактом и иронией, юмором. Каждый раз осекая сам себя, понимая, что уходит от магистральной темы, Бартошевич снова и снова возвращается к воспоминаниям отцовских сюжетов и каждый раз понимает, что, возможно, именно они и являются чем-то бесконечно важным, как для него самого, так и для понимания мхатовской эпохи, парадигмы существования театра, самой театральной эстетики, в конце концов. И, когда осознаешь это, когда видишь трогательный жест — рука поправляет хулиганисто-взъерошившуюся челку, возникает щемящее чувство уходящего времени. Эпоха уже бесконечно далекая, не всегда понятная, эпоха умных, наивных, ироничных людей — уходит.
Так вот, Бартошевич начинает уходить в воспоминания о собственном детстве, об отношениях с отцом, о белогвардейской молодости Вадима, о его отношениях с Качаловым. Все, и сюжет и сам рассказ, предельно пронизано интеллигентным тактом и иронией, юмором. Каждый раз осекая сам себя, понимая, что уходит от магистральной темы, Бартошевич снова и снова возвращается к воспоминаниям отцовских сюжетов и каждый раз понимает, что, возможно, именно они и являются чем-то бесконечно важным, как для него самого, так и для понимания мхатовской эпохи, парадигмы существования театра, самой театральной эстетики, в конце концов. И, когда осознаешь это, когда видишь трогательный жест — рука поправляет хулиганисто-взъерошившуюся челку, возникает щемящее чувство уходящего времени. Эпоха уже бесконечно далекая, не всегда понятная, эпоха умных, наивных, ироничных людей — уходит.

Фото: Instagram/moscowarttheatre
На следующий день на телеканале Спас появляется выпуск передачи «Не верю!» с участием Эдуарда Боякова и Константина Богомолова. Формат, изначально подразумевающий диалог верующего и атеиста, в присутствии двух главных театральных ньюсмейкеров сезона, превращается в сугубо театрализованное представление под условным названием «Найди настоящего христианина». Формально Бояков представляет крыло православия, Богомолов — атеизма. При этом Бояков бесконечно гибок и по-фарисейски комплиментарен по отношению к оппоненту. Богомолов же — само принятие, смирение и принципиальность; говорит сугубо о своей театральной теории и всем все прощает. По сути же речь о вере не идет и, честно говоря, диалог больше похож на «кошки-мышки», когда каждый пытается сформулировать фразу так, чтобы оппонент не подловил, и чтобы при этом уличить первым. Это разговор о театре, о том каким он должен быть, но разговор с заведомо известным финалом, в котором каждый остается «при своих». Еще большую театральность действу принесла внешность героев: Богомолов с вечно торчащими дыбом волосами, болезненным с поволокой взглядом и томно-распевной пришептывающей речью и Бояков в ядовитой змеиной расцветки черно-зеленой рубашке, с жутко осунувшимся лицом и заискивающими, аккуратно подобранными репликами — два сущих черта. Умные, продуманные-прожженные, извилистые чертяки. Игра ли это в поддавки без последствий или мы увидим в ближайшем будущем новую постановку Константина Юрьевича в МХТ им. Горького — неизвестно. Но факт настоящего театрального времени любопытный.

И буквально через день в Электротеатре Станиславский проходит дискуссия «10yearschallenge», посвященная ближайшему прошлому российского театра. Театральные критики мощно охватывают опыт, полученный театром за последние годы. Формулируют важность документального театра, новых театральных форм, изменение типов взаимодействия театральных акторов. И это бесконечно важно и нужно.
Но все разговоры вместе создают странное впечатление: будто у каждого деятеля, мыслителя, зрителя своя театральная реальность, часто не пересекающаяся с другими. Сотни параллельных театральных реальностей, знающих или не знающих друг о друге, живущих, развивающихся и умирающих автономно — вот картина мира сегодняшнего дня. Бесконечность форм и мнений о театре, конечно, отражает атомарность современного общества. Три вышеописанных примера, рандомным образом попавшие в одно и тоже время в поле внимания и практически изолированные друг от друга в своем контексте, подтверждают это. Специфически поляризованный полиморфизм, присущий обществу и, соответственно, отражающийся в культуре в целом, и в театральном искусстве в частности, вызывает двоякие чувства. С одной стороны, отсутствие внятных внешних опор дезориентирует и вызывает ощущение потерянности, безысходности. С другой — стимулирует к выстраиванию опор внутренних, поиску собственных ориентиров, принятию ответственности на себя. По сути это рост от инфантилизма к взрослению. А проживать тщетность отсутствия целостности мира, в том числе, театрального — часть пути. Прожить, осознать, принять.
Но все разговоры вместе создают странное впечатление: будто у каждого деятеля, мыслителя, зрителя своя театральная реальность, часто не пересекающаяся с другими. Сотни параллельных театральных реальностей, знающих или не знающих друг о друге, живущих, развивающихся и умирающих автономно — вот картина мира сегодняшнего дня. Бесконечность форм и мнений о театре, конечно, отражает атомарность современного общества. Три вышеописанных примера, рандомным образом попавшие в одно и тоже время в поле внимания и практически изолированные друг от друга в своем контексте, подтверждают это. Специфически поляризованный полиморфизм, присущий обществу и, соответственно, отражающийся в культуре в целом, и в театральном искусстве в частности, вызывает двоякие чувства. С одной стороны, отсутствие внятных внешних опор дезориентирует и вызывает ощущение потерянности, безысходности. С другой — стимулирует к выстраиванию опор внутренних, поиску собственных ориентиров, принятию ответственности на себя. По сути это рост от инфантилизма к взрослению. А проживать тщетность отсутствия целостности мира, в том числе, театрального — часть пути. Прожить, осознать, принять.