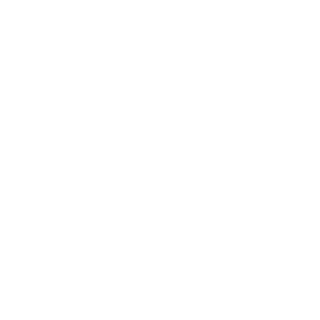Полезные свойства цинизма
Довлатов. Анекдоты
Текст: Олег Циплаков
Текст: Олег Циплаков
1
«В борьбе с абсурдом реакция должна быть столь же абсурдной. В идеале — тихое помешательство», — первая фраза и главный месседж спектакля Дмитрия Егорова «Довлатов. Анекдоты» в новосибирском «Красном факеле». Это спектакль-лайфхак по выживанию во времена тотального абсурда для тех, кого угораздило в эту эпоху родиться думающим человеком.
В сценическом пространстве, которое одним словом можно обозначить, как «советское» (стены и потолок из грубого жёлтого ДСП, табуретки, выкрашенные в зелёную краску), визуализируются воспоминания из жизни журналиста Долматова (роль исполнил Павел Поляков). Раньше Долматов был охранником в исправительной колонии, где ставили спектакль про Ленина и Дзержинского: заключённые корчатся, на них орёт начальник колонии, фоном играет «Арлекино» Аллы Пугачёвой. Фрагменты репетиций (читай: дрессировок) тюремной самодеятельности — первая сюжетная линия спектакля. Вторая — сцены из журналистской жизни героя. Он пишет пропагандистские статьи для типичной советской газеты, на него периодически орёт главред — типичный советский начальник с замшелыми вкусами, расист и антисемит в придачу.

За этими сценами Долматов наблюдает, стоя в углу, не вмешиваясь. Ничего не говорит, но отношение к происходящему безошибочно считывается по едкой ухмылке. Именно эта маска цинизма — основной метод сопротивления героя. Ещё одно средство защиты — анекдоты, причём пошлые и часто неуместные. Но клин, как известно, выбивают клином: когда всё безвкусно вокруг, шутить так же — естественная ответная реакция, позволяющая проще справляться с неловкостями. (Другое дело, что вся жизнь Долматова сплошная неловкость, один «длинный, скабрёзный анекдот».)
Быть наблюдателем в жизни по темпераменту может не каждый: к Долматову, который, чтобы заработать лишнюю копейку, водит экскурсии по городу, прямо на работу приходит жена. Она мечтает об эмиграции, и, в отличие от пишущего мужа, не находит контраргументов. «А как же язык?» — в ответ на экзальтированные речи супруги про кисельные берега вопрошает главный герой. Что важно: говоря про важность языка, Долматов тычет пальцем в соседа по скамье, по углам которой расселись воинственно настроенные супруги: между ними невозмутимо сидит кудрявый франт — в цилиндре, с тростью и бакенбардами. А жена писателя показывает своё отношение к великому и могучему: ставит «nihil» в виде авоськи с консервными банками на колени русскому языку во плоти (удобная полочка). И решает ехать в Америку одна.
Но скоро и у Долматова случается прощание с иллюзиями: когда милиционер проверяет его документы, тот, чтобы разрядить обстановку, отмачивает очередной вульгарный анекдот. Видно, не сошлись чувства юмора — блюститель порядка избивает героя. Немного оклемавшись, насупив брови, Долматов, как истинный русский, выпивает водки из горла и поднимается по лестнице, растворяясь в тумане и неизвестности. Дверь за ним — закрывается.
Быть наблюдателем в жизни по темпераменту может не каждый: к Долматову, который, чтобы заработать лишнюю копейку, водит экскурсии по городу, прямо на работу приходит жена. Она мечтает об эмиграции, и, в отличие от пишущего мужа, не находит контраргументов. «А как же язык?» — в ответ на экзальтированные речи супруги про кисельные берега вопрошает главный герой. Что важно: говоря про важность языка, Долматов тычет пальцем в соседа по скамье, по углам которой расселись воинственно настроенные супруги: между ними невозмутимо сидит кудрявый франт — в цилиндре, с тростью и бакенбардами. А жена писателя показывает своё отношение к великому и могучему: ставит «nihil» в виде авоськи с консервными банками на колени русскому языку во плоти (удобная полочка). И решает ехать в Америку одна.
Но скоро и у Долматова случается прощание с иллюзиями: когда милиционер проверяет его документы, тот, чтобы разрядить обстановку, отмачивает очередной вульгарный анекдот. Видно, не сошлись чувства юмора — блюститель порядка избивает героя. Немного оклемавшись, насупив брови, Долматов, как истинный русский, выпивает водки из горла и поднимается по лестнице, растворяясь в тумане и неизвестности. Дверь за ним — закрывается.

Внешне Америка кажется другой: по крайней мере пиджак у героя изменился в цвете — стал не серый. Долматов работает на радио, где после каждый его реплики звучит навязчивая, неестественно позитивная отбивка, из-за которой занятие героя кажется излишне помпезным и неживым. Отношения писателя с женой вне родной среды скатились до уровня смолл-токов и тоже стали бутафорскими. И даже кучерявого заведующего русским словом поменяла чужбинка: в США он играет на саксофоне, пьёт виски, а фрак сменил на джинсы — тонкая метафора ассимиляции языка в другой среде.

В финале спектакля, чтобы шире раскрыть тему эмиграции, режиссёр вводит дополнительную сюжетную линию — показывает притчу о Головкере. У этого персонажа другие мотивы: в Америку он едет не как Долматов — от безвыходности и с тоской, — а банально для наживы и самореализации. Он — советский Башмачкин: блёклый клерк, хотящий большего, но не вывернувшись для этого нутром, а лишь сменив снаружи пиджак. Ну, или бросив жену, детей и переехав в другую страну. Конформизм бывшего Головкина оказывается идеальной моделью для западного устоя, и вскоре он становится успешным бизнесменом Головкером.
Следующий шаг — убедить в своей состоятельности других, для чего Головкер везёт новую версию себя, а также кучу дорогущих подарков на родину, к бывшей жене: она смотрит на него, героя, восхищённым взглядом, чувственно вздыхает; он одаривает всех роскошью и светит винирами. Во сне. На деле же, вернувшись домой, Головкер видит, что по нему тут никто и не скучал, да и дома-то у него не осталось.
Следующий шаг — убедить в своей состоятельности других, для чего Головкер везёт новую версию себя, а также кучу дорогущих подарков на родину, к бывшей жене: она смотрит на него, героя, восхищённым взглядом, чувственно вздыхает; он одаривает всех роскошью и светит винирами. Во сне. На деле же, вернувшись домой, Головкер видит, что по нему тут никто и не скучал, да и дома-то у него не осталось.

На моменте этого тягостного осознания играет финальная песня — «Нас с тобою наебали» Бориса Гребенщикова. И это очень метафорично: на месте матерного слова звучит противный, цензурирующий писк. Примера нагляднее, почему довлатовские времена созвучны с днём сегодняшним, придумать сложно. Тем более, что и придумывать ничего не потребовалось — закон о запрете использования обсценной лексики в театре появился уже после премьеры спектакля, как бы сам ход времени актуализировал постановку Егорова.
Цензура коснулась и ещё одной сцены, в середине спектакля, однако режиссёр, очевидно специально, не стал убирать её бесследно: актёры занимают позиции, замирают. И звучит голос за кадром: «В связи с вышедшим недавно законом "О русском языке", следующая сцена не может быть показана». Кажется, нечто похожее в истории нашей страны уже было.
Цензура коснулась и ещё одной сцены, в середине спектакля, однако режиссёр, очевидно специально, не стал убирать её бесследно: актёры занимают позиции, замирают. И звучит голос за кадром: «В связи с вышедшим недавно законом "О русском языке", следующая сцена не может быть показана». Кажется, нечто похожее в истории нашей страны уже было.