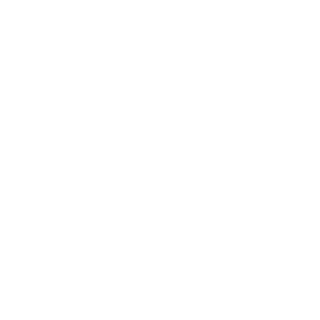Представления боли
Богомолов, Чехов, Раннев, Егоров, Кастеллуччи и другие
Текст: Юлия Бедерова
Текст: Юлия Бедерова
1
Перед вами первый в этом сезоне выпуск статей Лаборатории критики Института театра, редакторская колонка к которому могла бы называться «Богомолов, Чехов, Раннев, Егоров, Чехов, Богомолов, Кастеллуччи, а также: три сестры, три сосны, три моря, три Печорина, шестеро в кубе, одна подмышка и прочая театральная математика на русских сценах», если бы мы решили оставить здесь такой длинный заголовок. Но на картинку-квадратик он все равно бы не поместился, а короткий получился другим. Как будто мрачным.
«Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет», — такой цитатой из Марка Аврелия открывает текст о спектакле «Палата №6» в Челябинске Екатерина Сырцева. И действительно, какая боль, когда финальное ощущение — радость и легкость, и похоже, что боль отброшена: «В спектакле Данила Чащина сохранена чеховская атмосфера – тягостное уныние, безысходность, смертная тоска, переходящая в безумие. Но вот что удивительно: уходишь со спектакля с каким-то воодушевлением… То ли потому что хаос этого жуткого "чувствилища" разбавлен стёбом и чёрным юмором,… то ли потому что режиссёр изначально заявляет это как игру, в которой смерть – не поражение, а единственно возможный исход вечных страданий…»
Кстати, наш выпуск — это не СМИ и не академическое издание, тексты мы публикуем в авторской графике. Однако воодушевление воодушевлением, а тоскливая чеховская атмосфера в разных вариациях упоминается во многих текстах выпуска, протягиваясь через него как сквозная нить («зрителя погружают в атмосферу безысходности, грусти, бессмысленности», «…сестры предстают перед нами пустыми и глупыми, а финальные слова "и мы узнаем, зачем живем, зачем страдаем" не требуют жалости»). И, несмотря на очевидно разлитую в воздухе радость, эти тексты в свою очередь посвящены разнообразным представлениям о боли — боли настоящего, боли исчезнувшего или оживающего прошлого, боли актера, на глазах изумленной публики превращающегося из персонажа в самого себя, боли зрителя, когда слепит глаза, или боли жанра, когда от него остается одна только оболочка, да и та рассыпается на красивые режущие осколки, как елочный шарик.
Боль, судя по текстам, может быть колющей, ноющей, фоновой, приступами или фантомной, но так или иначе она упоминается или пристрастно анализируется и, кажется, в отличие от Марка Аврелия, авторы спектаклей и текстов о них еще, к счастью, не решили как лучше быть — отбросить представления о ней или оставить, заговорить («у кошки — боли, у собачки — боли, а у театра — не боли»), использовать или препарировать аккуратно.
Боль, судя по текстам, может быть колющей, ноющей, фоновой, приступами или фантомной, но так или иначе она упоминается или пристрастно анализируется и, кажется, в отличие от Марка Аврелия, авторы спектаклей и текстов о них еще, к счастью, не решили как лучше быть — отбросить представления о ней или оставить, заговорить («у кошки — боли, у собачки — боли, а у театра — не боли»), использовать или препарировать аккуратно.
Зато для первого выпуска авторы-участники Лаборатории собрали если не все самое дорогое из того, что у них было, то многое. И центральным сюжетом сборника предсказуемо стали «Три сестры» — в трактовке Богомолова самой по себе (Мария Иванова), в трактовке Богомолова в сравнении с трактовкой Женовача (Мария Муханова), что только подтверждает факт: эти сестры — один из самых актуальных сюжетов сезона. И они же словно притянули за собой другие, не чужие темы и не посторонних героев: Мила Денёва вспоминает про не новый, но снова важный спектакль Кулябина (так между тихими богомоловскими "Сестрами" и молчаливым грохотом Кулябина устанавливается телеграфно-невидимая связь), Екатерина Шевченко погружает нас в Беккета как в чеховскую драматургию, Антонина Шевченко добавляет свое лыко в строку критического письма об «Идеальном муже».
За Чеховым, не нарушая смутной, летучей атмосферы сложного уныния или бесстрастного разочарования, подтягиваются и Достоевский («Кафе "Идиот"» с двумя Настасьями Филипповнами), и Лермонтов («Герой нашего времени» с тремя Печориными), а там, глядишь, пристраиваются и Зебальд с его экспериментами над памятью и забывчивостью, и Пригов, и Довлатов, и Угаров.
Советское как миф и современная реальность, как пыль веков и воздух времени (того и этого) в текстах Лаборатории интересуют авторов как эстетически, так и политически. И даже если кажется, что спектакль строится как гирлянда траченых штампов, тотальный балаган, он почему-то начинает как будто что-то страшно пронзительное сообщать зрителю про него самого и про это время. А иногда и не «что-то», а нечто вполне конкретное: «…это очень метафорично: на месте матерного слова звучит противный, цензурирующий писк. Примера нагляднее, почему довлатовские времена созвучны с днём сегодняшним, придумать сложно. Тем более, что и придумывать ничего не потребовалось…» («Полезные свойства цинизма», Олег Циплаков.)
Еще один неожиданный поворот темы — игривая комплектация спектакля «Фаэтон» в Перми: о спектакле-призраке (то ли он есть, то ли его нет, на «Маску» номинирован, в театре не идет, как впрочем, некоторые другие тамошние представления) напоминает Екатерина Романова. «Фаэтон» собран из аутентистской реконструкции старинного театра пополам с такой же, кажется, аккуратной реконструкцией современного режиссерского театра интерпретации. И обе составляющие — прошлое и настоящее — работают двойной декорацией. О том, как она украшает «Пермские Афины», рассказывает автор.
Прошлые эстетические модели и формы действуют и в «Барокко» Серебренникова (текст Елены Филиной), но принципиально иначе, как смысловая механика, и погружают зрителя во тьму отнюдь не сценографического толка.
Прошлые эстетические модели и формы действуют и в «Барокко» Серебренникова (текст Елены Филиной), но принципиально иначе, как смысловая механика, и погружают зрителя во тьму отнюдь не сценографического толка.
Но еще немного о боли и Перми.
Анна Сокольская в очень важном тексте «Тело и набросок смысла» доказывает, что «Жанна на костре» Онеггера в Пермском театра — это не опера. Чем косвенно подтверждает: эксперты прошлого сезона фестиваля «Золотая маска» действительно как будто составили всю оперную номинацию из «не опер» (там же, к слову, и Богомолов, но текст о нем еще, надеемся, впереди). И любопытно не само по себе это экспертное хулиганство, будь оно случайно или намеренно, а то, что за ним следует — серьезный разговор. И вот он, уже в первом нашем выпуске, как на блюдечке.
Анна Сокольская в очень важном тексте «Тело и набросок смысла» доказывает, что «Жанна на костре» Онеггера в Пермском театра — это не опера. Чем косвенно подтверждает: эксперты прошлого сезона фестиваля «Золотая маска» действительно как будто составили всю оперную номинацию из «не опер» (там же, к слову, и Богомолов, но текст о нем еще, надеемся, впереди). И любопытно не само по себе это экспертное хулиганство, будь оно случайно или намеренно, а то, что за ним следует — серьезный разговор. И вот он, уже в первом нашем выпуске, как на блюдечке.
Примерно в том же жанре «это не опера» написан текст про спектакль «Индивиды и атомарные предложения». Не опера он, кстати, вовсе не потому, что все подумали, а потому, что Лисовский (по крайней мере, так спектакль видит Арина Овчинникова), заливая сцену математикой и превращая действие в оперное пространство торжествующе герметичной и никому непонятной условности, производит над актером сходную операцию — тот перестает быть в нашем понимании персонажем, а начинает быть собой. А мы собой.
Тоже собой, сначала вынутым из прошлого, а потом помещающим это прошлое внутрь себя, начинает быть и герой спектакля «Аустерлиц» в тексте Марии Андрющенко. В первой версии статья уже опубликована на портале Stravinsky.online у коллег (в этом году они тоже начали делать выпуски своей музыкально-критической лаборатории), но для театрального контекста этот текст особенно принципиален: он о том, как может работать в театре музыка, если речь идет о формально не музыкальных жанрах, проще говоря, если это не опера и не балет, о которых приличные люди вроде бы договорились, что разговаривать должны профильные специалисты. Но сегодня этот договор выглядит уже очень так себе и позволяет упускать важное: современная российская театральная ситуация напитана новой музыкой, мягко плавит или жестко реформирует жанры, поколение композиторов «новой волны» занято в драме едва ли не больше, чем в музыкальных театрах, и очень сильно влияет на ее химический состав. Может ли музыка, как в нашем лабораторном обсуждении, быть «обрамлением» драматического спектакля (спойлер: может, но очень редко) или служит его частью (если не источником форм или идей), и как это работает у Владимира Раннева — в тексте «Звуковой ландшафт Аустерлица» с воображаемым подзаголовком «это не драматический театр».
Долго ли, коротко ли, но у нас есть для вас еще реплика не без тезиса «это не балет»: едкий, трепетный и тоже важный текст/набросок Таты Боевой про балетную пантомиму как исчезающий язык располагается невдалеке от юбилея Петипа и рядом с аналитикой балетных реконструкций (то ли они актуализируют старомодный театр, то ли сочиняют новаторский), и тоже говорит не только о фантомных болях жанра, но и шире — снова про прошлое и настоящее, и как они взаимодействуют, общаются ли, даже когда на мертвом языке.
И возвращаясь к началу этого разговора, конечно, и это даже не нужно лишний раз постулировать, «смерть — это единственный исход страданий». Но до того момента нам тоже надо как-то время проводить. И разные рассказы о представлениях о боли, целый сквозной болючий карнавал в первом выпуске Лаборатории критики института театра — не самый плохой вариант. Тем более, что в том же фестивале болевых ощущений участвуют и фельетоны (перед вами в одном из текстов выступит, к примеру, газированный Кинг-Конг), и полемические реплики, как например прямой разговор о судьбе уфимской «Театральной ночи». Региональная театральная ситуация — в не меньшем объеме и с не меньшим пристрастием — в наших следующих выпусках, оставайтесь с нами.