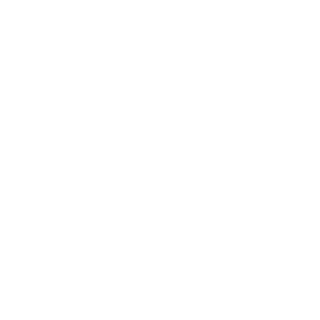Субъективное, сверхсубъективное
Текст: Ая Макарова
1
Лаборанты – то ли потомки,
пытающиеся разобраться
в прошлом, то ли кукловоды,
играющие в человеческие судьбы.
Антонина Шевченко, "Без начала и конца"
Критики хотят говорить о критике.
Катерина Бабурина,
телеграм-канал "Смольный без провода"
пытающиеся разобраться
в прошлом, то ли кукловоды,
играющие в человеческие судьбы.
Антонина Шевченко, "Без начала и конца"
Критики хотят говорить о критике.
Катерина Бабурина,
телеграм-канал "Смольный без провода"
Театр «Эмпирика»
Сессия третьей недели была посвящена субъективности. Авторы писали о человеке (то есть о субъекте, то есть о себе), а Ярослав Тимофеев, который вел встречу в минувшее воскресенье, настаивал: главное, зачем нужно читать ваши тексты — то, что вы можете добавить от себя.
Закономерно, что четвертая неделя прошла в поисках объективного, точнее как минимум сверхсубъективного, а как максимум реального.
Юлия Бедерова устроила практикум для пришедших — показала фрагменты спектакля и предложила здесь же, в аудитории сформулировать темы, которые мы — коллектив лаборатории (дальше я буду пользоваться некорректным словом «лаборант») — стали бы обсуждать, проверять или иначе затрагивать применительно к увиденному и услышанному. Как всегда, мы искали не ответы, а новые вопросы, не разгадки, а а только догадки.
Все мы работаем по-разному. Чей-то аналитический аппарат питается музыкальным топливом, чей-то театральным, чей-то прежде всего направлен на визуальное восприятие, а чей-то — и вовсе является синтетическим, а не аналитическим. Казалось бы, адский канкан субъективности? И вот картина стала складываться сама собой. Из всех голосов сложился один и совершенно определенный спектакль. Аппроксимация оперы Александра Маноцкова «52» прошла успешно — вплоть до того, что Анна Сокольская почти угадала даже название литературной основы. «Мы идем все дальше», — сказала Анна. Ну еще бы: это же Лев Рубинштейн, «Все дальше и дальше».
«Мы имеем дело с абсолютно объективной реальностью», — заметила Юлия.
Закономерно, что четвертая неделя прошла в поисках объективного, точнее как минимум сверхсубъективного, а как максимум реального.
Юлия Бедерова устроила практикум для пришедших — показала фрагменты спектакля и предложила здесь же, в аудитории сформулировать темы, которые мы — коллектив лаборатории (дальше я буду пользоваться некорректным словом «лаборант») — стали бы обсуждать, проверять или иначе затрагивать применительно к увиденному и услышанному. Как всегда, мы искали не ответы, а новые вопросы, не разгадки, а а только догадки.
Все мы работаем по-разному. Чей-то аналитический аппарат питается музыкальным топливом, чей-то театральным, чей-то прежде всего направлен на визуальное восприятие, а чей-то — и вовсе является синтетическим, а не аналитическим. Казалось бы, адский канкан субъективности? И вот картина стала складываться сама собой. Из всех голосов сложился один и совершенно определенный спектакль. Аппроксимация оперы Александра Маноцкова «52» прошла успешно — вплоть до того, что Анна Сокольская почти угадала даже название литературной основы. «Мы идем все дальше», — сказала Анна. Ну еще бы: это же Лев Рубинштейн, «Все дальше и дальше».
«Мы имеем дело с абсолютно объективной реальностью», — заметила Юлия.
Глобус России
А теперь вопрос: как стать частью объективной реальности? Нет, это серьезный вопрос.
Посмотрим на карту России — так, как ее можно представить по актуальному информационному полю. Театры, кажется, есть в Петербурге и Москве, а в остальных городах возникают спорадически, иногда разгораются ярче иного столичного солнца — но тут же гаснут в небытии.
«Ни одно издание не захочет писать об Уфе каждую неделю», — пожимает плечами Андрей Королёв. В одном из черновиков возникает недоумение: актуальный спектакль в «условном провинциальном театре» — разве так бывает? При обсуждении другого — неизбежная жалоба: если живешь в Новосибирске и не считаешь этичным писать про НОВАТ, так придется вовсе об опере не писать!
Пунсоны наносятся на карты руками картографов. Ландшафт меняют градостроители и мостостроители. Лаборанты — сессия за сессией — говорят о региональных проектах, и не только в связи с фестивалем «Золотая маска». «Все на свете делается людьми», — повторяет Татьяна Белова. Это — объективная реальность.
«Если в начале москвичи могут с интересом прислушиваться к южному наречию и смеяться над мечтами о строительстве метро, то ближе к концу спектакля "100% Воронеж" связь между Москвой и Воронежем (а может, и всеми российскими городами) становится очевидной», — не позволяет забыться Мария Муханова.
И вот уже барокко звучит в Уфе: «Уфа старается придерживаться проверенного, безопасного репертуара, а барочная музыка по сей день остается малопонятной диковиной и для артистов, и для зрителей. Поэтому... постановка "Геракла" Генделя — поистине геркулесов подвиг, — обрисовывает ситуацию Екатерина Романова и продолжает. — Спектакль вызвал неоднозначную... реакцию у зрителей и критиков. Было и недовольное ворчание в зале, и жалобы в министерство культуры... Но... шаг за шагом непривычная музыка начинает открываться уфимскому зрителю и слушателю, вселяя надежду на то, что все-таки есть барокко в своем отечестве».
Удаленность же Екатеринбурга от столиц — вовсе не тема для обсуждения. Елена Филина рассказывает о «Пахите» Урал Балета как о естественной части реальности: «Несмотря на сохраненное либретто и структуру, новый спектакль Вячеслава Самодурова, завершившего эту постановку после смерти Сергея Вихарева — принципиально новая трактовка первоначальной версии. Любовная история цыганки Пахиты и графа Люсьена подвержена не только сюжетным испытаниям, но и проносится сквозь эпохи. Урал Балет сумел осуществить невозможное, показав три версии "Пахиты" в разных стилях».
Столичная природа спектакля — не требующая аргументации и не вызывающая вопросов объективность, как несомненна для автора и его вневременная, а оттого несвященная природа: «Композитор Юрий Красавин... актуализировал оригинальную партитуру... Примитивную фактуру, без подтекстов и скрытых отсылок, композитор обогащает и перерабатывает, делая из нее современную динамичную ткань».
Посмотрим на карту России — так, как ее можно представить по актуальному информационному полю. Театры, кажется, есть в Петербурге и Москве, а в остальных городах возникают спорадически, иногда разгораются ярче иного столичного солнца — но тут же гаснут в небытии.
«Ни одно издание не захочет писать об Уфе каждую неделю», — пожимает плечами Андрей Королёв. В одном из черновиков возникает недоумение: актуальный спектакль в «условном провинциальном театре» — разве так бывает? При обсуждении другого — неизбежная жалоба: если живешь в Новосибирске и не считаешь этичным писать про НОВАТ, так придется вовсе об опере не писать!
Пунсоны наносятся на карты руками картографов. Ландшафт меняют градостроители и мостостроители. Лаборанты — сессия за сессией — говорят о региональных проектах, и не только в связи с фестивалем «Золотая маска». «Все на свете делается людьми», — повторяет Татьяна Белова. Это — объективная реальность.
«Если в начале москвичи могут с интересом прислушиваться к южному наречию и смеяться над мечтами о строительстве метро, то ближе к концу спектакля "100% Воронеж" связь между Москвой и Воронежем (а может, и всеми российскими городами) становится очевидной», — не позволяет забыться Мария Муханова.
И вот уже барокко звучит в Уфе: «Уфа старается придерживаться проверенного, безопасного репертуара, а барочная музыка по сей день остается малопонятной диковиной и для артистов, и для зрителей. Поэтому... постановка "Геракла" Генделя — поистине геркулесов подвиг, — обрисовывает ситуацию Екатерина Романова и продолжает. — Спектакль вызвал неоднозначную... реакцию у зрителей и критиков. Было и недовольное ворчание в зале, и жалобы в министерство культуры... Но... шаг за шагом непривычная музыка начинает открываться уфимскому зрителю и слушателю, вселяя надежду на то, что все-таки есть барокко в своем отечестве».
Удаленность же Екатеринбурга от столиц — вовсе не тема для обсуждения. Елена Филина рассказывает о «Пахите» Урал Балета как о естественной части реальности: «Несмотря на сохраненное либретто и структуру, новый спектакль Вячеслава Самодурова, завершившего эту постановку после смерти Сергея Вихарева — принципиально новая трактовка первоначальной версии. Любовная история цыганки Пахиты и графа Люсьена подвержена не только сюжетным испытаниям, но и проносится сквозь эпохи. Урал Балет сумел осуществить невозможное, показав три версии "Пахиты" в разных стилях».
Столичная природа спектакля — не требующая аргументации и не вызывающая вопросов объективность, как несомненна для автора и его вневременная, а оттого несвященная природа: «Композитор Юрий Красавин... актуализировал оригинальную партитуру... Примитивную фактуру, без подтекстов и скрытых отсылок, композитор обогащает и перерабатывает, делая из нее современную динамичную ткань».
Не по словам, а по словам
Не только барокко и романтический балет — манящие призраки прошлого, но и документальная проза — фантом сегодняшних медиумов — бродят по Европе и заглядывают в Россию.
Евгений Зайцев смотрит, как документальность и театрализация борются в спектакле ижевского театра Les Partisans: «На... простоту, будничность, незатейливость преступлений сетует альтер эго драматурга... Этой простотой тяжело дышит и сам визуально скупой спектакль. Поэтому таким неуклюжим... выглядит пришитый театрализованный эпизод с рэп-баттлом, выламывающий спектакль из документальной эстетики. <...> Когда в конце все герои спектакля, уже растерявшего по ходу дела изрядную долю документальности, что, в общем, ему не вредит, встретятся в коридоре отдела полиции и окажется, что каждого что-то связывает с почти каждым, это не будет выглядеть фальшивым и неуместным драматургическим поворотом. Ведь истории удмуртских маргиналов конвертируются для любого закоулка нашей страны, возникает нерадость узнавания».
Общее настоящее влечет общее будущее («Себе... пожелаем увидеть времена, когда мысль о физическом и моральном надругательстве над человеком... будет невообразимой и травмирующей, как хрип из колонок перед спектаклем», — мечтает Евгений) и коренится в общем прошлом.
Целых два текста посвящены постановке «Времени секонд хэнд» в Омском театре драмы. Документальная проза Светланы Алексиевич и работа с ней режиссера Дмитрия Егорова заставляет Марию Иванову искать точные слова в поэтическом арсенале: сцена, покрытая старой одеждой без просветов, оказывается беспросветной, макеты реальности — игрушечной жизнью, переживаемые актерами монологи — присвоенной памятью.
Совсем иначе, академично и тщательно, подходит к разговору о спектакле Антонина Шевченко. И все же поэзия — объективно необходимый инструмент и для нее: «Режиссер Дмитрий Егоров поделил спектакль на "Время героев" и "Голоса эпохи" острым лезвием развала Советского Союза... Двоемирие создает на сцене и художник, деля ее горизонтально пополам, как на два культурных слоя земли».
Евгений Зайцев смотрит, как документальность и театрализация борются в спектакле ижевского театра Les Partisans: «На... простоту, будничность, незатейливость преступлений сетует альтер эго драматурга... Этой простотой тяжело дышит и сам визуально скупой спектакль. Поэтому таким неуклюжим... выглядит пришитый театрализованный эпизод с рэп-баттлом, выламывающий спектакль из документальной эстетики. <...> Когда в конце все герои спектакля, уже растерявшего по ходу дела изрядную долю документальности, что, в общем, ему не вредит, встретятся в коридоре отдела полиции и окажется, что каждого что-то связывает с почти каждым, это не будет выглядеть фальшивым и неуместным драматургическим поворотом. Ведь истории удмуртских маргиналов конвертируются для любого закоулка нашей страны, возникает нерадость узнавания».
Общее настоящее влечет общее будущее («Себе... пожелаем увидеть времена, когда мысль о физическом и моральном надругательстве над человеком... будет невообразимой и травмирующей, как хрип из колонок перед спектаклем», — мечтает Евгений) и коренится в общем прошлом.
Целых два текста посвящены постановке «Времени секонд хэнд» в Омском театре драмы. Документальная проза Светланы Алексиевич и работа с ней режиссера Дмитрия Егорова заставляет Марию Иванову искать точные слова в поэтическом арсенале: сцена, покрытая старой одеждой без просветов, оказывается беспросветной, макеты реальности — игрушечной жизнью, переживаемые актерами монологи — присвоенной памятью.
Совсем иначе, академично и тщательно, подходит к разговору о спектакле Антонина Шевченко. И все же поэзия — объективно необходимый инструмент и для нее: «Режиссер Дмитрий Егоров поделил спектакль на "Время героев" и "Голоса эпохи" острым лезвием развала Советского Союза... Двоемирие создает на сцене и художник, деля ее горизонтально пополам, как на два культурных слоя земли».
Диктат формата, или Диктатура формы
Говорим «двоемирие», думаем «Романтизм». О романтической критике и утраченных вместе с ней форматах в воскресенье много говорили: читали Бернарда Шоу и фельетониста, прятавшегося за псевдонимом «Мефистофель из Хамовников», спорили о том, можно ли так писать сегодня.
«Тогда критика была частью литературы», — отметила Анна Сокольская.
А сейчас она часть чего?
В общем-то — часть чего угодно. Вместе с Юлией Бедеровой мы искали чисто журналистские жанры — и не нашли ни одного. Вместе с Татьяной Беловой вспоминали о непубликабельных (in potentio) форматах, которые (in actio) были созданы для буклетов Большого театра под ее редакцией — от комиксов до хроник.
И все же лаборанты в основном стараются писать так, как принято сейчас. Или как стало принято в девяностые? Газетные и журнальные рецензии, заголовок-подзаголовок-вводка, все то, что мы берем за образец — объективно самые актуальные форматы в 2019 году, или думать так — ошибка выжившего?
Подозреваю, второе: давайте оглядимся вокруг. Откуда вы узнаете новости? Я — из телеграма. А какие сайты у вас в сохраненных вкладках? Полка и Арзамас? Нож? Театралий? Театрология? Или вы читаете селф-паблишинг? Или вообще не читаете — зачем, когда есть подкасты и YouTube?
Определяется ли формат предметом — объективно? Текст Олега Циплакова посвящен спектаклю (или не спектаклю?) виктора вилисова «МАЗЭРАША» и написан в жанре черновика: «Здесь будет краткая предыстория и введение в контекст <...>. Еще такой тезис: <...>. Еще так: <...>. Еще я расскажу: <...>». Текст называется «Ничего не готово».
«Тогда критика была частью литературы», — отметила Анна Сокольская.
А сейчас она часть чего?
В общем-то — часть чего угодно. Вместе с Юлией Бедеровой мы искали чисто журналистские жанры — и не нашли ни одного. Вместе с Татьяной Беловой вспоминали о непубликабельных (in potentio) форматах, которые (in actio) были созданы для буклетов Большого театра под ее редакцией — от комиксов до хроник.
И все же лаборанты в основном стараются писать так, как принято сейчас. Или как стало принято в девяностые? Газетные и журнальные рецензии, заголовок-подзаголовок-вводка, все то, что мы берем за образец — объективно самые актуальные форматы в 2019 году, или думать так — ошибка выжившего?
Подозреваю, второе: давайте оглядимся вокруг. Откуда вы узнаете новости? Я — из телеграма. А какие сайты у вас в сохраненных вкладках? Полка и Арзамас? Нож? Театралий? Театрология? Или вы читаете селф-паблишинг? Или вообще не читаете — зачем, когда есть подкасты и YouTube?
Определяется ли формат предметом — объективно? Текст Олега Циплакова посвящен спектаклю (или не спектаклю?) виктора вилисова «МАЗЭРАША» и написан в жанре черновика: «Здесь будет краткая предыстория и введение в контекст <...>. Еще такой тезис: <...>. Еще так: <...>. Еще я расскажу: <...>». Текст называется «Ничего не готово».
Чем время нравственнее пространства? Вопрос
«Переосмысление советской эпохи — важная тема, редко проявляющаяся в театре. Кажется, время пришло, наши сердца требуют этого переосмысления, чтобы жить дальше», — пишет Мария Иванова.
Что ж, если говорить о недавнем прошлом мешает чрезмерно короткая дистанция — как справиться с разговором о сегодняшнем дне?
Разумеется, через театр. Или правильнее — театром? «Кто использует свое право участвовать в выборах? Кто хотел бы, чтобы в Воронеж вернулись трамваи? Кто изменял партнеру? Кто давал взятки? Кто считает украинцев братским народом? Кто боится ходить по некоторым районам Воронежа ночью? В спектакле "100% Воронеж" жители города отвечают на эти и множество других вопросов о политике, благоустройстве, работе, семье и счастье», — рассказывает Мария Муханова.
Так как же говорить? Честно. «Стоящие на сцене могут иметь разные политические убеждения и разделять разные ценности, но это не мешает им существовать как единому сообществу с сотней разных позиций. "Мы — единый организм со ста головами". "100% Воронеж"... о том, что город — это живое существо, меняющееся и неоднородное».
Значит, объективность сегодня — сумма всех субъективностей? «Мы рабы интерпретаций, — комментирует Мила Денёва обсуждение фрагментов из оперы Маноцкова. — Мы смотрим собственное смотрение. Не важно, что мы смотрим, а важно, как».
Самое время поговорить об эмансипации тех самых субъектов-зрителей. Анна Сокольская представляет зрителя-слушателя активным субъектом восприятия, деятелем, без которого невозможен спектакль — по крайней мере оперный: «Спектакль... обладает той степенью пустоты, которая дает возможность для реализации зрительской свободы и итогового включения музыки в синтетическое целое спектакля... В оперном спектакле никто не может претендовать на главенство, на позицию единственного автора. Жанр оперы знал о смерти Автора всегда, с самого момента своего появления. Любой оперный спектакль, любая реализация либретто и партитуры на сцене напоминает нам об этом. Множественность ракурсов, головокружительная полифония событий, направления векторов режиссуры, сценографии, коллективного музыкального исполнения предлагают нам одновременно готовый артефакт и модель для сборки».
Здесь Анна возвращается — как исследователь в неметафорической лаборатории — к собственным размышлениям прошлой недели: «Прямое соответствие звучания и смысла, навязывание музыке и сценическому действию общей системы грамматики и в результате подмена аффекта актом — все это исключает из системы спектакля зрителя, единственного субъекта, который обладает полномочиями осуществить пресловутый оперный синтез. Там же, где оперный театр неизменно проваливается в лакуну между музыкой и действием, между риторической условностью выражения и истиной переживания, — там ему не остается ничего иного как взлететь, и пилотирует его зритель».
Что ж, если говорить о недавнем прошлом мешает чрезмерно короткая дистанция — как справиться с разговором о сегодняшнем дне?
Разумеется, через театр. Или правильнее — театром? «Кто использует свое право участвовать в выборах? Кто хотел бы, чтобы в Воронеж вернулись трамваи? Кто изменял партнеру? Кто давал взятки? Кто считает украинцев братским народом? Кто боится ходить по некоторым районам Воронежа ночью? В спектакле "100% Воронеж" жители города отвечают на эти и множество других вопросов о политике, благоустройстве, работе, семье и счастье», — рассказывает Мария Муханова.
Так как же говорить? Честно. «Стоящие на сцене могут иметь разные политические убеждения и разделять разные ценности, но это не мешает им существовать как единому сообществу с сотней разных позиций. "Мы — единый организм со ста головами". "100% Воронеж"... о том, что город — это живое существо, меняющееся и неоднородное».
Значит, объективность сегодня — сумма всех субъективностей? «Мы рабы интерпретаций, — комментирует Мила Денёва обсуждение фрагментов из оперы Маноцкова. — Мы смотрим собственное смотрение. Не важно, что мы смотрим, а важно, как».
Самое время поговорить об эмансипации тех самых субъектов-зрителей. Анна Сокольская представляет зрителя-слушателя активным субъектом восприятия, деятелем, без которого невозможен спектакль — по крайней мере оперный: «Спектакль... обладает той степенью пустоты, которая дает возможность для реализации зрительской свободы и итогового включения музыки в синтетическое целое спектакля... В оперном спектакле никто не может претендовать на главенство, на позицию единственного автора. Жанр оперы знал о смерти Автора всегда, с самого момента своего появления. Любой оперный спектакль, любая реализация либретто и партитуры на сцене напоминает нам об этом. Множественность ракурсов, головокружительная полифония событий, направления векторов режиссуры, сценографии, коллективного музыкального исполнения предлагают нам одновременно готовый артефакт и модель для сборки».
Здесь Анна возвращается — как исследователь в неметафорической лаборатории — к собственным размышлениям прошлой недели: «Прямое соответствие звучания и смысла, навязывание музыке и сценическому действию общей системы грамматики и в результате подмена аффекта актом — все это исключает из системы спектакля зрителя, единственного субъекта, который обладает полномочиями осуществить пресловутый оперный синтез. Там же, где оперный театр неизменно проваливается в лакуну между музыкой и действием, между риторической условностью выражения и истиной переживания, — там ему не остается ничего иного как взлететь, и пилотирует его зритель».
Объективная опера
Опера — испытательный полигон театра, где самые радикальные и самые убийственные (почти в любом смысле, кроме прямого) приборчики проверяются на объективную безотказность работы.
Один из таких объектов, разумеется, реклама — летает невысоко, зато стреляет из протонной пушки. Когда протоны собираются обратно, зритель превращается в покупателя. Об этом рассказывает Дмитрий Павликов: «Новое руководство НОВАТа откровенно говорит, что опера привлекает в театр мало публики. Чтобы изменить ситуацию, фактически каждую оперную постановку преподносят с добавлением подзаголовка, который часто себя не оправдывает. Опера-триллер без триллера, опера-дегустация, а никакой дегустации там тоже нет. Безусловно, реклама — очень важный маркетинговый ход, когда она соответствует правде». Вот так! Если на коробке написано «фэшн», внутри должен быть он, а не театр — непредсказуемый и потому, разумеется, никогда ничему не соответствующий. И если что, можно требовать жалобную книгу, чеховскую или не очень: «Шедевр Верди... не покорился постановщикам. Реклама в очередной раз себя не оправдала».
В Электротеатре же полигонные испытания проходит человеческое тело. Может ли человек, пришедший в оперу, смотреть и слушать одновременно? Речь снова о «Прозе» Владимира Раннева, сквозной теме и для этой, и для прошлой Лаборатории.
Для Раи Потапкиной всего важнее уши: «У Чехова герои "Степи" существуют в звуковом пространстве царской России конца XIX века — времени расцвета русской хоровой музыки. Акапельное пение звучит в церкви, в концертных залах; от рождения до смерти человек окружен народными песнями. По сюжету Егорушка покидает родной дом в 1887 году: Чайковский уже написал "Литургию святого Иоанна Златоуста" и "Всенощное бдение"; Танеев сочиняет первые хоровые опусы; Рахманинов заканчивает Московскую консерваторию. Хоровое письмо "Степи" Раннева-композитора, задействующее только живые голоса на сцене, cозвучно историческому контексту повести».
Звучание чеховской «Степи» для Раи — не только культурный контекст плюс вербальные, фонетические ритмы и длительности («Текст повести делится на некоторые равномерные отрезки, причем остановки или, наоборот, длинные ноты зачастую дробят слова на части, как они могли бы отпечатываться в аффектированном сознании Егорушки»). В своей лаборатории она выращивает музыку Раннева из чеховских слов: «В партитуре Раннева считываются звуковые образы, которыми Чехов наполняет свою повесть. Долгие звуки и созвучия, словно "монотонная музыка" кузнечиков и сверчков приазовской степи, тянутся через все сочинение пунктирной линией, прерываемой внезапными блок-аккордами, унисонным скандированием отдельных слов или слогов, глиссандо».
Один из таких объектов, разумеется, реклама — летает невысоко, зато стреляет из протонной пушки. Когда протоны собираются обратно, зритель превращается в покупателя. Об этом рассказывает Дмитрий Павликов: «Новое руководство НОВАТа откровенно говорит, что опера привлекает в театр мало публики. Чтобы изменить ситуацию, фактически каждую оперную постановку преподносят с добавлением подзаголовка, который часто себя не оправдывает. Опера-триллер без триллера, опера-дегустация, а никакой дегустации там тоже нет. Безусловно, реклама — очень важный маркетинговый ход, когда она соответствует правде». Вот так! Если на коробке написано «фэшн», внутри должен быть он, а не театр — непредсказуемый и потому, разумеется, никогда ничему не соответствующий. И если что, можно требовать жалобную книгу, чеховскую или не очень: «Шедевр Верди... не покорился постановщикам. Реклама в очередной раз себя не оправдала».
В Электротеатре же полигонные испытания проходит человеческое тело. Может ли человек, пришедший в оперу, смотреть и слушать одновременно? Речь снова о «Прозе» Владимира Раннева, сквозной теме и для этой, и для прошлой Лаборатории.
Для Раи Потапкиной всего важнее уши: «У Чехова герои "Степи" существуют в звуковом пространстве царской России конца XIX века — времени расцвета русской хоровой музыки. Акапельное пение звучит в церкви, в концертных залах; от рождения до смерти человек окружен народными песнями. По сюжету Егорушка покидает родной дом в 1887 году: Чайковский уже написал "Литургию святого Иоанна Златоуста" и "Всенощное бдение"; Танеев сочиняет первые хоровые опусы; Рахманинов заканчивает Московскую консерваторию. Хоровое письмо "Степи" Раннева-композитора, задействующее только живые голоса на сцене, cозвучно историческому контексту повести».
Звучание чеховской «Степи» для Раи — не только культурный контекст плюс вербальные, фонетические ритмы и длительности («Текст повести делится на некоторые равномерные отрезки, причем остановки или, наоборот, длинные ноты зачастую дробят слова на части, как они могли бы отпечатываться в аффектированном сознании Егорушки»). В своей лаборатории она выращивает музыку Раннева из чеховских слов: «В партитуре Раннева считываются звуковые образы, которыми Чехов наполняет свою повесть. Долгие звуки и созвучия, словно "монотонная музыка" кузнечиков и сверчков приазовской степи, тянутся через все сочинение пунктирной линией, прерываемой внезапными блок-аккордами, унисонным скандированием отдельных слов или слогов, глиссандо».
Облеченный в этот грубый облик, который я наследовал от чрева
Мария Андрющенко в тексте «Голос прозы» выбирает в качестве ведущего канала глаза: «Рты в опере "Проза" везде. Рот выплевывает баббл с текстом. Рты в больших количествах проносятся по экрану, заглатывают нарисованную еду. Есть ртом, пожирать глазами, глазами же выплевывать бабблы. Вот — головы вперемешку, вот — рты, а вот — глаза... Вырезанные из советских плакатов и журналов фигуры, а также их части, городские пейзажи девяностых и герои интернет-мемов идеально ложатся на морок рассказа Мамлеева», — и выхватывает связь телесности и унижения: «Чтобы не переживать, нужно "прочистить желудок". Кошмар входит "в суп, который они ели"... Желания <главного героя> Вани выстраиваются в предельно простую цепочку: сначала — удовлетворения физиологических потребностей, а потом — желания власти. Его непомерно разросшееся тело пожирает все вокруг себя, как диктатор, медленно поглощает свое государство, убивая тех, кто его кормит».
Человеческое тело вообще штука такая — объективно не очень. Евгений Зайцев размышляет о «физическом и моральном надругательстве над человеком за крабовую палочку». «"Обделаюсь ли я после смерти?", — вот в чем вопрос, интересующий героев на пороге гибели», — описывает Мила Денёва спектакль «SOCIOPATH. Гамлет» Театра «Старый дом». Для Алины Исмаиловой главная суггестивная и главная негативная функция — тоже в теле. О «Реке Потудань» Сергея Чехова она рассказывает: «Один из немногих эмоциональных "всплесков" <в спектакле> происходит в самом начале, когда Новохижин несколько раз швыряет об пол тело молодой актрисы Илоны Гончар. Смотреть на это не очень приятно: худощавая, с выпирающими ребрами и бледной кожей, Гончар с перверсивной страстью прикладывается к кафелю, поднимается, чтобы снова упасть».
Так значит человек по — телесной — природе зол?
Человеческое тело вообще штука такая — объективно не очень. Евгений Зайцев размышляет о «физическом и моральном надругательстве над человеком за крабовую палочку». «"Обделаюсь ли я после смерти?", — вот в чем вопрос, интересующий героев на пороге гибели», — описывает Мила Денёва спектакль «SOCIOPATH. Гамлет» Театра «Старый дом». Для Алины Исмаиловой главная суггестивная и главная негативная функция — тоже в теле. О «Реке Потудань» Сергея Чехова она рассказывает: «Один из немногих эмоциональных "всплесков" <в спектакле> происходит в самом начале, когда Новохижин несколько раз швыряет об пол тело молодой актрисы Илоны Гончар. Смотреть на это не очень приятно: худощавая, с выпирающими ребрами и бледной кожей, Гончар с перверсивной страстью прикладывается к кафелю, поднимается, чтобы снова упасть».
Так значит человек по — телесной — природе зол?
Анастасия Баркова видит в ненависти к телу ошибку социума, а спектакль «28 дней» в Театре.doc позволяет ей обнаружить добро в том, что злом считают многие женщины — в менструальной цикличности.
Женское тело — повод проблематизировать человеческое бытие вообще: «Главный конфликт пьесы и спектакля тоже трагедийный: Я и Мир, Человек и Судьба. Главная героиня задается вопросами: Почему месячные приносят столько страдания физического, эмоционального, социального и эстетического?.. Природа, которая все устроила подобным образом, предстает в качестве Злого Рока». Или же ежемесячное кровотечение — способ познания? Эффективный инструмент анализа? «По законам трагедии, герой должен или измениться, или погибнуть. Здесь все остается на своих местах, цикл завершается и начинается новый. Героиня, меняющаяся на протяжении всего спектакля, снова приходит к точке отсчета, но уже с более глубокими вопросами: "Кто я?", "Где правда?", "А может, это не ПМС, а и правда лучше бросить парня?", "Мы считаем, что в ПМС мы ненормальные. А может, наоборот?"»
Женское тело — повод проблематизировать человеческое бытие вообще: «Главный конфликт пьесы и спектакля тоже трагедийный: Я и Мир, Человек и Судьба. Главная героиня задается вопросами: Почему месячные приносят столько страдания физического, эмоционального, социального и эстетического?.. Природа, которая все устроила подобным образом, предстает в качестве Злого Рока». Или же ежемесячное кровотечение — способ познания? Эффективный инструмент анализа? «По законам трагедии, герой должен или измениться, или погибнуть. Здесь все остается на своих местах, цикл завершается и начинается новый. Героиня, меняющаяся на протяжении всего спектакля, снова приходит к точке отсчета, но уже с более глубокими вопросами: "Кто я?", "Где правда?", "А может, это не ПМС, а и правда лучше бросить парня?", "Мы считаем, что в ПМС мы ненормальные. А может, наоборот?"»
There's a method in it
Но все-таки самая страшная проблема — как вообще писать о театре?
Выбор Анастасии Глуховой — писать о тех, кто театр делает, искать объективности в тех, кто существует вне автора, делать свой взгляд объективным, ретранслируя чужой: «Перед глазами Бартошевича, "мхатовского ребенка", как он сам себя называет, прошла практически вся история МХТ, он застал еще великих мхатовских стариков. Бартошевич, комментируя, зачитывает фрагменты из писем и мемуаров актеров и людей, близких к театру. Из этих фрагментов складывается страшная картина голода, страха, неизвестности — гражданской войны. "О спектаклях не может быть и речи", упоминается в одном из писем».
Анастасии тоже важно тело («Еще большую театральность действу принесла внешность героев»), важны биографии, важен контекст. Она ищет методологию в личном через контекстное, Анна Сокольская — в анализе зрителя, Рая Потапкина — в слушании прозы, Анастасия Баркова — в человеческом теле.
Многоликий арсений фарятьев — в медитации, аналитической философии и психоанализе; и направляет свой инструментарий острием к себе. «Сразу после предпремьерного показа режиссера спектакля <"Ревизор"> Антона Федорова спросил друг: "Антон, как ты умудрился из комедии сделать спектакль, в котором постоянно страшно?" Мне страшно не было... Я... как зритель испытывал чувство жуткости».
Как это устроено? «Когда дедушка Фрейд сталкивается с феноменом, который имеет потенциал быть оправданным силами сверхъестественного свойства, лежащими в основе мироздания, его охватывает чувство, которое он может описать только как чувство жуткости».
Выбор Анастасии Глуховой — писать о тех, кто театр делает, искать объективности в тех, кто существует вне автора, делать свой взгляд объективным, ретранслируя чужой: «Перед глазами Бартошевича, "мхатовского ребенка", как он сам себя называет, прошла практически вся история МХТ, он застал еще великих мхатовских стариков. Бартошевич, комментируя, зачитывает фрагменты из писем и мемуаров актеров и людей, близких к театру. Из этих фрагментов складывается страшная картина голода, страха, неизвестности — гражданской войны. "О спектаклях не может быть и речи", упоминается в одном из писем».
Анастасии тоже важно тело («Еще большую театральность действу принесла внешность героев»), важны биографии, важен контекст. Она ищет методологию в личном через контекстное, Анна Сокольская — в анализе зрителя, Рая Потапкина — в слушании прозы, Анастасия Баркова — в человеческом теле.
Многоликий арсений фарятьев — в медитации, аналитической философии и психоанализе; и направляет свой инструментарий острием к себе. «Сразу после предпремьерного показа режиссера спектакля <"Ревизор"> Антона Федорова спросил друг: "Антон, как ты умудрился из комедии сделать спектакль, в котором постоянно страшно?" Мне страшно не было... Я... как зритель испытывал чувство жуткости».
Как это устроено? «Когда дедушка Фрейд сталкивается с феноменом, который имеет потенциал быть оправданным силами сверхъестественного свойства, лежащими в основе мироздания, его охватывает чувство, которое он может описать только как чувство жуткости».
Так кто же мы и отчего нам жутко? «Мы ничего не можем знать о внешнем мире — когда нам об этом напоминают какие-то события, мы испытываем чувство жуткости». Вслед за Анастасией, арсений смотрит на свое тело («Это чем-то напоминает подход британского философа Д. Э. Мура <...> "У меня есть доказательство внешнего мира. Вот рука. Вот — другая". По сути, Мур смирился с тем, что ни у кого не получилось, что у него тоже не получится, и засомневался в разумности всего предприятия».), а затем вглядывается в пустоту: «Краеугольным камнем — основой механики спектакля — выступает <буддийская> доктрина пустотности... Она сформировалась из убеждения о том, что человеческое восприятие отличается от действительного положения вещей. Людям, например, свойственно видеть в вещах и самих себе некоторую независимую сущность, которая может существовать (и, согласно такому взгляду, благополучно существует) отдельно от всего остального. Буддизм же видит в этом фундаментальное заблуждение, ориентируясь на следующее противоречие: если все объекты (как материальные, так и умозрительные) самобытны, имеют завершение в самих себе, то решительно непонятно, каким образом происходит взаимодействие между этими объектами — как один законченный и неизменный объект может повлиять на другой. Ситуацию с такого рода эссенциализмом можно доводить до абсурда: если вещи завершены в себе, нам приходится отказаться от идеи причинно-следственной связи».
Кажется, снова прощай, объективность? А заодно и самотождественность. Постойте, но если это в самом деле так — значит, объективно?
Арсений иллюстрирует свою методологию не только театральным примером, но и примером из области квантовой физики, американского философа Хилари Патнама заставляет беседовать с Ильей Лагутенко. Там, где отказывает философия, арсению тоже приходит на помощь поэзия.
Может, по причине, о которой на прошлой неделе говорила Мария Муханова: «ритм — стихотворный или музыкальный — позволяет найти свою связь с миром, каким бы он ни был. Поэзия служит щипком, который возвращает в реальность и в то же время сохраняет воспоминания о сне». А может, критика объективно осталась частью литературы?
Диктует ли содержание форму?
Кажется, снова прощай, объективность? А заодно и самотождественность. Постойте, но если это в самом деле так — значит, объективно?
Арсений иллюстрирует свою методологию не только театральным примером, но и примером из области квантовой физики, американского философа Хилари Патнама заставляет беседовать с Ильей Лагутенко. Там, где отказывает философия, арсению тоже приходит на помощь поэзия.
Может, по причине, о которой на прошлой неделе говорила Мария Муханова: «ритм — стихотворный или музыкальный — позволяет найти свою связь с миром, каким бы он ни был. Поэзия служит щипком, который возвращает в реальность и в то же время сохраняет воспоминания о сне». А может, критика объективно осталась частью литературы?
Диктует ли содержание форму?
Третий путь
Андрей Королёв поверяет форму формой, литературу — литературой, и вторую неделю не путешествует из Москвы в Петушки: «Как стигматы — святой Терезе, спектакли по поэме Венедикта Ерофеева "Москва — Петушки" зрителю не нужны, но желанны. Впрочем, в своей постановке режиссер Андрий Жолдак это желание сводит на нет: в большинстве рецензий на спектакль "Балтийского дома" уточняется, что заполненные залы к финалу регулярно пустели. То есть дорога к Кремлю опять привела к Курскому вокзалу». Не стилизуя текст, он находит время и место для того, чтобы его голос слился с голосом Ерофеева: «"Москва — Петушки" Жолдака становится спектаклем о невозможности постановки литературного произведения... Читатель, решивший на сцене вытащить Венедикта из небытия, вынужден дойти с ним до самого конца, как с собственным похмельем. Публика, рискнувшая посмотреть спектакль и не обнаружившая в нем привычную алкогольную одиссею, имеет возможность выйти из театра в любой момент — и слава богу. Спектакль всячески выталкивает зрителя прочь из зала — на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!»
Создание текста как методология создания текста, рассуждение как способ рассуждать, нетождественность в недвойственности — у текстов Андрея и арсения больше общего, чем казалось, хотя теория арсения очевидно не нуждается в дополнительной практике, а практике Андрея теорию заменяет литература.
Создание текста как методология создания текста, рассуждение как способ рассуждать, нетождественность в недвойственности — у текстов Андрея и арсения больше общего, чем казалось, хотя теория арсения очевидно не нуждается в дополнительной практике, а практике Андрея теорию заменяет литература.
Дорога без конца
Расстояние можно нейтрализовать. На четвертой встрече далекое и близкое поменялись местами: лаборанты из других городов приехали в Москву, а ведущий встречу я, наоборот, остался в Петербурге. «Вы куда <пойдете> есть?» — написал мне вечером в телеграм коллега-лаборант. Я — на кухню.
Дорога в Москву подарила всем лаборантам возможность говорить, а не только слушать; дорога из Москвы помешала кому-то подготовить текст для публикации. География отомстила. Из 21 одного черновика пока вышло 15 публикаций.
И все же мы прошли огромный путь вместе — совершенно объективно.
«Любому тексту нужны вторые глаза», — постулировала Татьяна Белова на самой первой встрече. «Но мы не редакторы!» — постоянно напоминает Юлия Бедерова.
На второй встрече Кристина Матвиенко успела вслух прокомментировать каждый текст; мы трое решили вынести основную работу со словом за пределы аудитории: оставили обильные комментарии к каждому черновику. Я боялся, что лаборанты испугаются (о проклятое удвоение) обилия вариантов, веера мелочей, вихря — моих — вопросов. Лаборанты, разумеется, не только не испугались, но и оказались готовы и способны переработать тексты, разрешить противоречия, найти выходы (или входы), перестроить маршрут.
Дорога стала и метафорой, и методом для Ольги Аббасовой — спектакль «Разговоры» в Квартире на Мойке, 40 она описала как путешествие длиной, кажется, в жизнь: «Для меня спектакль начался с увлекательного путешествия до места квартиры-театра. Всем гостям за день до спектакля высылают карту с подробным описанием указателей маршрута. На пути этого маршрута встречаются и арка кафе, и служебный вход другого театра, и ворота. Ничего необычного, но пока я следовал данному маршруту, меня не покидало чувство ответственности. Мне нужно не сбиться с толку. Не потому что я боюсь опоздать. Мне просто нужно, и все тут». Будущий опыт — опыт спектакля — меняет прошлый, дорога уходит вдаль (или, как в книжке, «в даль») в обе стороны. Значит, нет в итоге ничего объективного?
Дорога в Москву подарила всем лаборантам возможность говорить, а не только слушать; дорога из Москвы помешала кому-то подготовить текст для публикации. География отомстила. Из 21 одного черновика пока вышло 15 публикаций.
И все же мы прошли огромный путь вместе — совершенно объективно.
«Любому тексту нужны вторые глаза», — постулировала Татьяна Белова на самой первой встрече. «Но мы не редакторы!» — постоянно напоминает Юлия Бедерова.
На второй встрече Кристина Матвиенко успела вслух прокомментировать каждый текст; мы трое решили вынести основную работу со словом за пределы аудитории: оставили обильные комментарии к каждому черновику. Я боялся, что лаборанты испугаются (о проклятое удвоение) обилия вариантов, веера мелочей, вихря — моих — вопросов. Лаборанты, разумеется, не только не испугались, но и оказались готовы и способны переработать тексты, разрешить противоречия, найти выходы (или входы), перестроить маршрут.
Дорога стала и метафорой, и методом для Ольги Аббасовой — спектакль «Разговоры» в Квартире на Мойке, 40 она описала как путешествие длиной, кажется, в жизнь: «Для меня спектакль начался с увлекательного путешествия до места квартиры-театра. Всем гостям за день до спектакля высылают карту с подробным описанием указателей маршрута. На пути этого маршрута встречаются и арка кафе, и служебный вход другого театра, и ворота. Ничего необычного, но пока я следовал данному маршруту, меня не покидало чувство ответственности. Мне нужно не сбиться с толку. Не потому что я боюсь опоздать. Мне просто нужно, и все тут». Будущий опыт — опыт спектакля — меняет прошлый, дорога уходит вдаль (или, как в книжке, «в даль») в обе стороны. Значит, нет в итоге ничего объективного?
Или есть. Например, что-то, что переживается каждым предельно субъективно — «чувство коллективного духа — мы не просто гости на литературном вечере, мы его творцы», о котором рассказывает Ольга. («Как быть, если мне все-таки хочется рассказать о себе?» — спрашивает Анастасия Баркова. Рассказывайте смелее, отвечаю я, трансгрессируйте, суггестируйте, объясняйте, ищите причины того, что с вами было. Не делитесь пережеванной кашей, предлагайте задачи для решения. Тогда сработает.)
Или беззвучная музыка в «Пианистах» того же режиссера — Бориса Павловича. «Завязки, кульминации и контрапункты — весь спектакль организован как музыкальное произведение. Музыкальность есть и в речи артистов: каждый персонаж, как инструмент симфонического оркестра, ведет свою тему. Даже у света музыкальная партитура со своим ритмом. А вот рояля на сцене нет... И композиции Клода Дебюсси, исполнением которых <главный герой спектакля> Аксель так хочет поразить мир, отражаются лишь в ощущениях зрителей». Это рассказ из черновика Екатерины Макаркиной, текст целиком ждем в выпуске номер пять.
А пока перед вами четвертый. Объективно — довольно крутой, правда же?
Или беззвучная музыка в «Пианистах» того же режиссера — Бориса Павловича. «Завязки, кульминации и контрапункты — весь спектакль организован как музыкальное произведение. Музыкальность есть и в речи артистов: каждый персонаж, как инструмент симфонического оркестра, ведет свою тему. Даже у света музыкальная партитура со своим ритмом. А вот рояля на сцене нет... И композиции Клода Дебюсси, исполнением которых <главный герой спектакля> Аксель так хочет поразить мир, отражаются лишь в ощущениях зрителей». Это рассказ из черновика Екатерины Макаркиной, текст целиком ждем в выпуске номер пять.
А пока перед вами четвертый. Объективно — довольно крутой, правда же?
Документальное барокко
Сегодня, когда я это пишу, Пурим.
Дело Седьмой студии длится 666 дней.
"Тангейзер" снят с репертуара в Новосибирском оперном 1350 дней назад.
Еще я расскажу...
Еще такой тезис...
И это тоже вполне объективно.
Дело Седьмой студии длится 666 дней.
"Тангейзер" снят с репертуара в Новосибирском оперном 1350 дней назад.
Еще я расскажу...
Еще такой тезис...
И это тоже вполне объективно.