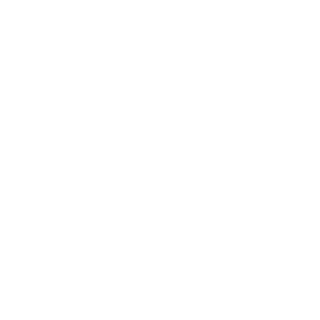Моцарт жив
Поэтический и политический театр Кирилла Серебренникова
Текст: Мария Муханова
Фото: Анна Шмитько
Текст: Мария Муханова
Фото: Анна Шмитько
1
Созвучие слов «поэтический» и «политический» приобретает в «Гоголь-центре» особое значение. Репертуар театра с каждым годом пополняют новые спектакли по русской поэзии — от цикла «Звезда», основанного на стихах Ахматовой, Кузмина, Мандельштама, Маяковского и Пастернака, до standalone спектаклей (например, «Кому на Руси жить хорошо», в котором Кирилл Серебренников исследует трудную для восприятия поэму Некрасова с помощью пластики и музыки).
«Маленькие трагедии» — только часть того объема стихов Пушкина, которые заново открывает Серебренников в спектакле, и в каждом из текстов после просмотра можно обнаружить что-то новое и личное. В этом помогает сочетание визуального и звукового: одни и те же стихотворения и реплики не только произносятся, но и выводятся на экраны — как целиком, так и отдельными строками и словами. Расширяют пространство для персональных интерпретаций и запоминающиеся образы — партии Филиппа Авдеева и рэпера Хаски на фоне железных заборов и скамеек, Сальери (Никита Кукушкин) в футболке с портретом Моцарта, или, например, старые афиши Театра имени Гоголя в доме престарелых.
«Пророк», открывающий «Маленькие трагедии», на сцене проиллюстрирован кровавой расправой Воина с Поэтом на вокзале; часть реплик Мефистофеля в «Сцене из Фауста» озвучивает голосовой помощник Siri; особое сокровище — целая подборка стихов, начинающихся с «я». Завершает спектакль «Предчувствие», которое кажется настоящим предсказанием: появляющаяся на экране строчка «Снова тучи надо мною…» исходит как будто от сидящего под домашним арестом режиссера, который не увидел премьеру своих «Трагедий».
Спектакль отличает безупречно выстроенная композиция с плавными переходами между частями. Серебренников монтирует основные сюжетные линии с интермедиями, которые делают «Маленькие трагедии» динамичными и захватывающими. «Срамная интермедия» в исполнении Никиты Кукушкина вплетается в текст «Каменного гостя», а демоническая «Сцена из Фауста» (Филипп Авдеев) создает необходимое напряжение перед тихим, трогательным и печальным эпилогом — «Пиром во время чумы».
Кочующие из одной части в другую персонажи и реквизит позволяют соединить основные четыре текста — «Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря», «Каменного гостя» и «Пир во время чумы». Так, витрина вокзального кафе, по которой Воин размазывает кровь Пророка (он же Моцарт), впоследствии становится гробом Дона Карлоса; неоновая надпись «СОВЕСТЬ» (как и «ЖГИ»), изначально важные в одном контексте, в итоге становятся ключевыми для всей постановки.
«Пророк», открывающий «Маленькие трагедии», на сцене проиллюстрирован кровавой расправой Воина с Поэтом на вокзале; часть реплик Мефистофеля в «Сцене из Фауста» озвучивает голосовой помощник Siri; особое сокровище — целая подборка стихов, начинающихся с «я». Завершает спектакль «Предчувствие», которое кажется настоящим предсказанием: появляющаяся на экране строчка «Снова тучи надо мною…» исходит как будто от сидящего под домашним арестом режиссера, который не увидел премьеру своих «Трагедий».
Спектакль отличает безупречно выстроенная композиция с плавными переходами между частями. Серебренников монтирует основные сюжетные линии с интермедиями, которые делают «Маленькие трагедии» динамичными и захватывающими. «Срамная интермедия» в исполнении Никиты Кукушкина вплетается в текст «Каменного гостя», а демоническая «Сцена из Фауста» (Филипп Авдеев) создает необходимое напряжение перед тихим, трогательным и печальным эпилогом — «Пиром во время чумы».
Кочующие из одной части в другую персонажи и реквизит позволяют соединить основные четыре текста — «Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря», «Каменного гостя» и «Пир во время чумы». Так, витрина вокзального кафе, по которой Воин размазывает кровь Пророка (он же Моцарт), впоследствии становится гробом Дона Карлоса; неоновая надпись «СОВЕСТЬ» (как и «ЖГИ»), изначально важные в одном контексте, в итоге становятся ключевыми для всей постановки.

В отличие от спектаклей проекта «Звезда» («Маяковский. Трагедия», «Мандельштам. Век-волкодав» и так далее), в название «Маленьких трагедий» не вынесено имя поэта — но после просмотра можно уверенно самому его туда подставить. Поэзию невозможно воспринимать вне ее автора, но в поэтических спектаклях Серебренникова личность поэта еще больше выходит на первый план, почти гипертрофированно. Поэтому неслучайно появление в «Маленьких трагедиях» и «Пророка», и «Сцены…», и срамных стихов, и «19 октября», прочитанного самим Пушкиным—Майей Ивашкевич: не входящие в основной сюжет тексты дополняют его и размыкают контекст. Хотя на сцене существуют и развиваются нетождественные автору персонажи, невидимая тень Пушкина тоже проходит свой путь на протяжении спектакля — от встреченного «шестикрылым серафимом» гения до пациента в доме престарелых.
Пушкин и Серебренников кажутся необычайно близкими в своем понимании свободы, как внешней, социальной, так и внутренней. Весь спектакль — это освобождение: от привычных интерпретаций, социального давления, самоцензуры. Можно показать расправу с пророком без прикрас и в этом следовать тексту, а можно полностью изменить смысл «Скупого рыцаря», превратив богатство Барона из денег в книги. Старый лозунг «"Гоголь-центр" — это территория свободы» оставался бы правдивым, даже если бы в репертуаре остались одни только «Маленькие трагедии».
Что делать с этой свободой? В чем-то Серебренников следует Сартру с его формулой «человек осужден быть свободным». Один из мотивов спектакля — подвешенность: в воздухе висит и современный Моцарт со своим синтезатором, колонкой, наушниками и микрофоном, и ставший байкером Альбер из «Скупого рыцаря». Мефистофель возвышается и парит над Фаустом, а склейки между частями обозначены поднимающейся и опускающейся конструкцией из железных палок, которая собирается разными героями, а затем двигается в гармонии и хаосе одновременно.
Пушкин и Серебренников кажутся необычайно близкими в своем понимании свободы, как внешней, социальной, так и внутренней. Весь спектакль — это освобождение: от привычных интерпретаций, социального давления, самоцензуры. Можно показать расправу с пророком без прикрас и в этом следовать тексту, а можно полностью изменить смысл «Скупого рыцаря», превратив богатство Барона из денег в книги. Старый лозунг «"Гоголь-центр" — это территория свободы» оставался бы правдивым, даже если бы в репертуаре остались одни только «Маленькие трагедии».
Что делать с этой свободой? В чем-то Серебренников следует Сартру с его формулой «человек осужден быть свободным». Один из мотивов спектакля — подвешенность: в воздухе висит и современный Моцарт со своим синтезатором, колонкой, наушниками и микрофоном, и ставший байкером Альбер из «Скупого рыцаря». Мефистофель возвышается и парит над Фаустом, а склейки между частями обозначены поднимающейся и опускающейся конструкцией из железных палок, которая собирается разными героями, а затем двигается в гармонии и хаосе одновременно.

Это преобразование в «Маленьких трагедиях» представлено как ритуал. Во-первых, «Пророк» с растерзанным поэтом — сюжет сам по себе древний и фольклорный по происхождению, а его физиологичность в спектакле Серебренникова напоминает и миф об Орфее, растерзанном вакханками. В «Трагедиях» в их роли выступает Воин, который уничтожает Пророка на виду у скучающих на станции пассажиров и неизменного для современного театра телевизора с одними и теми же новостями о войне из года в год. Во-вторых, эротическая линия в спектакле построена на образе козла, который напоминает и об этимологии названия жанра трагедии («козлиная песнь» была частью дионисийского культа), и о Сатирах как символах плодородия и похоти.
С ритуальностью согласуется и музыка, которая по своей значимости для действия и его восприятия близка к действующему лицу. В «Моцарте и Сальери» это обусловлено сюжетом, но и его Серебренников полностью переосмысливает, включив в трагедию 'Smells Like Teen Spirit'. С помощью песни выражена необходимая для театра мысль: Художник в любое время — это не опрятный перфекционист Сальери, а разрушающий себя и других Моцарт—Кобейн. Но оба они по-своему превратились в коллективном сознании в образы себя (Моцарт в портрет на конфетах, а Кобейн в смайлик-логотип Nirvana). Поэтому режиссеру и нужен новый голос в лице Хаски, который репрезентирует новую эпоху в русской популярной музыке.
Этот выбор, с одной стороны, обновляет образ пророка, а с другой — подчеркивает, насколько другие формы нужны современному искусству для того, чтобы быть пророческим и неизбежным. Поэт становится личностью отнюдь не благодаря рассуждениям о высоких идеалах и чувствах; напротив, современность со всеми ее проблемами и бытом, которые могут казаться недостойными выражения на бумаге или на сцене, каждый раз обретают новый смысл. Отчасти это, конечно, черта всего русского искусства и русской жизни, которая веками стоит на месте, а сменяются только пейзажи. Из поместий получаются панельки, но «черным-черно» здесь было и будет.
И все-таки в этом беспорядке и темноте есть гармония, которая заключается в самой поэтической форме. Упорядоченная речь упорядочивает и сознание; ритм — стихотворный или музыкальный — позволяет найти свою связь с миром, каким бы он ни был. Поэзия служит щипком, который возвращает в реальность и в то же время сохраняет воспоминания о сне. Хорошо, что мы всегда знаем, куда за таким пробуждением сходить.
С ритуальностью согласуется и музыка, которая по своей значимости для действия и его восприятия близка к действующему лицу. В «Моцарте и Сальери» это обусловлено сюжетом, но и его Серебренников полностью переосмысливает, включив в трагедию 'Smells Like Teen Spirit'. С помощью песни выражена необходимая для театра мысль: Художник в любое время — это не опрятный перфекционист Сальери, а разрушающий себя и других Моцарт—Кобейн. Но оба они по-своему превратились в коллективном сознании в образы себя (Моцарт в портрет на конфетах, а Кобейн в смайлик-логотип Nirvana). Поэтому режиссеру и нужен новый голос в лице Хаски, который репрезентирует новую эпоху в русской популярной музыке.
Этот выбор, с одной стороны, обновляет образ пророка, а с другой — подчеркивает, насколько другие формы нужны современному искусству для того, чтобы быть пророческим и неизбежным. Поэт становится личностью отнюдь не благодаря рассуждениям о высоких идеалах и чувствах; напротив, современность со всеми ее проблемами и бытом, которые могут казаться недостойными выражения на бумаге или на сцене, каждый раз обретают новый смысл. Отчасти это, конечно, черта всего русского искусства и русской жизни, которая веками стоит на месте, а сменяются только пейзажи. Из поместий получаются панельки, но «черным-черно» здесь было и будет.
И все-таки в этом беспорядке и темноте есть гармония, которая заключается в самой поэтической форме. Упорядоченная речь упорядочивает и сознание; ритм — стихотворный или музыкальный — позволяет найти свою связь с миром, каким бы он ни был. Поэзия служит щипком, который возвращает в реальность и в то же время сохраняет воспоминания о сне. Хорошо, что мы всегда знаем, куда за таким пробуждением сходить.