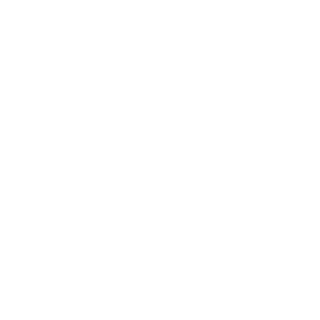Медитация на пустоте
Второй поход не вполне реального, но подготовленного зрителя
Текст: арсений фарятьев
Текст: арсений фарятьев
1
Когда разум спит, фантазия в сонных грезах
порождает чудовищ, но в сочетании с разумом
фантазия становится матерью искусства
и всех его чудесных творений.
Франсиско Гойя
порождает чудовищ, но в сочетании с разумом
фантазия становится матерью искусства
и всех его чудесных творений.
Франсиско Гойя
Сразу после предпремьерного показа режиссера спектакля Антона Федорова спросил друг: «Антон, как ты умудрился из комедии сделать спектакль, в котором постоянно страшно?» Мне страшно не было, но я понимаю, что друг имел ввиду. Все персонажи, за исключением Хлестакова, всегда находились в состоянии ужаса и трепета перед мнимым ревизором. Хлестаков еще периодически находился в состоянии упадка. Я же как зритель испытывал чувство жуткости. Комедия, кстати, не отпадала, но жутко было даже когда я смеялся. Да и публика тогда реагировала на происходящее столь неоднородно, что, вероятно, я был не единственным.
Надо телефон выключить…
Лавочка… Над ней правее и левее две надписи: «купцы» и «больные». Зеркало. Окошко в нарисованное ночное небо. Мышиные норы, увеличенные до людских размеров. Людям, как мышам, приходится визуально уменьшиться в размерах, чтобы через них пройти. Отодвинув зеркало, заходят купцы и больные (Никита Логинов и Наум Швец). Голос Олега Каравайчука. В программке, кстати, так и написано: «ГОЛОС – Олег Каравайчук; ЗА РОЯЛЕМ – Олег Каравайчук». Это существенно. Каравайчук размышляет в записи обо всем, но преимущественно о Гоголе, хотя это и не всегда заметно. Больные радуются каждый раз, когда Каравайчук произносит слово «Гоголь». Каравайчуковская импровизация на рояле.
Появляется Городничий (Алексей Чернышев) – пальто, голые ноги и калоши. Звериными звуками созывает чиновников. По-лошадиному сдувает периодически необузданный конским хвостом локон с лица. Постепенно в этой норе скапливаются чиновники: Бобчинский (Максим Громов), Добчинский (Александр Сазонов), Земляника (Александр Зотов) и Гибнер (Алексей Мишаков).
Весь текст произносится вычурно-неразборчиво, как будто у каждого персонажа есть непреодолимые дефекты речи, если не самой личности – они покалечены своим ужасом еще до того, как понимают, кого им стоит бояться. Знакомый текст невозможно разобрать, можно только предположить, что только что мы (зрители) услышали фразу «… сообщить пренеприятнейшее известие: к нам едет ревизор». Но звучит скорее «…а-абжьи бенебеяже ызэсия: гх а ээ еижор». Чиновникам каждая фраза, каждая попытка коммуникации дается с таким колоссальным трудом, что, кажется, они в скором времени умрут от удушья или им уже требуется незамедлительное вмешательство врача в связи с отеком Квинке. Они производят впечатление мутантов, имитирующих человеческую речь. Без контекста это бы зрителя пугало, и он бы практиковался в эмпатии, отражая страх персонажей. Но зритель знает пьесу наперед, и текст ему или ей знаком. Поэтому, наверное, у зрителя нет чувства страха, но копится жуть.
Лавочка… Над ней правее и левее две надписи: «купцы» и «больные». Зеркало. Окошко в нарисованное ночное небо. Мышиные норы, увеличенные до людских размеров. Людям, как мышам, приходится визуально уменьшиться в размерах, чтобы через них пройти. Отодвинув зеркало, заходят купцы и больные (Никита Логинов и Наум Швец). Голос Олега Каравайчука. В программке, кстати, так и написано: «ГОЛОС – Олег Каравайчук; ЗА РОЯЛЕМ – Олег Каравайчук». Это существенно. Каравайчук размышляет в записи обо всем, но преимущественно о Гоголе, хотя это и не всегда заметно. Больные радуются каждый раз, когда Каравайчук произносит слово «Гоголь». Каравайчуковская импровизация на рояле.
Появляется Городничий (Алексей Чернышев) – пальто, голые ноги и калоши. Звериными звуками созывает чиновников. По-лошадиному сдувает периодически необузданный конским хвостом локон с лица. Постепенно в этой норе скапливаются чиновники: Бобчинский (Максим Громов), Добчинский (Александр Сазонов), Земляника (Александр Зотов) и Гибнер (Алексей Мишаков).
Весь текст произносится вычурно-неразборчиво, как будто у каждого персонажа есть непреодолимые дефекты речи, если не самой личности – они покалечены своим ужасом еще до того, как понимают, кого им стоит бояться. Знакомый текст невозможно разобрать, можно только предположить, что только что мы (зрители) услышали фразу «… сообщить пренеприятнейшее известие: к нам едет ревизор». Но звучит скорее «…а-абжьи бенебеяже ызэсия: гх а ээ еижор». Чиновникам каждая фраза, каждая попытка коммуникации дается с таким колоссальным трудом, что, кажется, они в скором времени умрут от удушья или им уже требуется незамедлительное вмешательство врача в связи с отеком Квинке. Они производят впечатление мутантов, имитирующих человеческую речь. Без контекста это бы зрителя пугало, и он бы практиковался в эмпатии, отражая страх персонажей. Но зритель знает пьесу наперед, и текст ему или ей знаком. Поэтому, наверное, у зрителя нет чувства страха, но копится жуть.

В своем эссе «Жуткое» Фрейд ставит под сомнение значение интеллектуальной неуверенности (uncertainty) для ощущения жуткого (англ. uncanny). Согласно Фрейду «жуткое — это та разновидность пугающего, которое имеет начало в давно [некогда] известном, в издавна привычном». В английском переводе подразумевается неизвестность жуткого в момент встречи с ним, поскольку «once known» (некогда знакомым/известным) подразумевает незнание в момент наступления «когда». Фрейдовская уверенность в том, что «к новому и непривычному нужно прежде кое-что добавить, чтобы оно стало жутким…» тоже в спектакле имеет значение. То есть, согласно Фрейду жуткое – это знакомое, которое неизвестно (забыто) в момент встречи.
«Ревизор» Гоголя я знаю – он не жуткий. Мне незнакомо существование текст произносящих. Вернее, это неизвестное (вероятно, забытое) для меня существование. Только интеллектуальная неуверенность играет в спектакле большую роль, а Фрейд позже в своем эссе стремится полностью упразднить значение неизвестного для ощущения жуткости: «Об "интеллектуальной неуверенности" здесь уже не может быть и речи: теперь мы уверены, что нам нужно рассматривать не фантастическое видение безумца, за которым мы при рационалистическом рассуждении обязаны признать объективное положение дел, а впечатление жуткого, которое из-за этого объяснения ни в малейшей степени не уменьшилось. Стало быть, интеллектуальная неуверенность не предлагает нам ничего для понимания этого жуткого впечатления….»
«Ревизор» Гоголя я знаю – он не жуткий. Мне незнакомо существование текст произносящих. Вернее, это неизвестное (вероятно, забытое) для меня существование. Только интеллектуальная неуверенность играет в спектакле большую роль, а Фрейд позже в своем эссе стремится полностью упразднить значение неизвестного для ощущения жуткости: «Об "интеллектуальной неуверенности" здесь уже не может быть и речи: теперь мы уверены, что нам нужно рассматривать не фантастическое видение безумца, за которым мы при рационалистическом рассуждении обязаны признать объективное положение дел, а впечатление жуткого, которое из-за этого объяснения ни в малейшей степени не уменьшилось. Стало быть, интеллектуальная неуверенность не предлагает нам ничего для понимания этого жуткого впечатления….»
В цитате Фрейд обсуждает рассказ Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек» и обращает наше внимание на тот момент повествования, когда становится явным и неоспоримым, что Натанаэль, главный герой, столкнулся с демоническими силами колоссального могущества. Но уверенность в наличии этих демонических сил, естественно, не способствует состоянию покоя, как Фрейд справедливо замечает. Что он оставляет без внимания, так это то, что реальность сверхъестественного вряд ли внушает уверенность в чем-либо еще: в действительности, мир Натанаэля разрушен вследствие того, что все, что он знал и мог объяснить «рационалистическим рассуждением», не имеет за собой правды с момента установления новой истины – существования демонических сил. Если уж на то пошло, в такой ситуации спокойней было бы сознавать себя безумцем, поскольку в случае сумасшествия сверхъестественные события можно было бы объяснить хотя бы психологией. Осознаваемое сумасшествие не ставит под сомнение наши убеждения относительно реальности, в то время как нестареющий мужчина, который без хирургических средств может успешно извлечь детские глаза из их орбит – вполне. Если такого рода вещи возможны – все, что мы знали до события-доказательства, не может вселять уверенности: все под сомнением. Безумие – утешительная мысль для Натанаэля: он как раз и боится того, что Песочный человек реален, в то время как у него, к его сожалению, есть все основания верить именно в это. Фрейд опускает интеллектуальную неуверенность после того, как установлено, что сверхъестественное является частью действительности, несмотря на то, что такого рода уверенность обеспечивает значительно большими проблемами не только главного героя, но и читателя. Если бы нам предоставили неопровержимые доказательства того, что мы – мозги в контейнерах – или существуем в Матрице, вряд ли на этом наши вопросы относительно положения вещей иссякли, и мы бы радостно воскликнули «Теперь все понятно!» Натанаэль находит себя в положении, когда ни черта не понятно и именно от этого жутко – интеллектуальная неуверенность совершенно невредима.
Приблизительно в такое же положение попадают чиновники Гоголя на сцене Федорова. Но они испытывают ужас, а не жуткость, перед силами, которые для них имеют свойства демонических и сверхъестественных. Комедия в том, что они сами наделяют Хлестакова свойствами Песочного человека. А Хлестаков (Семен Штейнберг) абсолютное ничтожество. Он все произносит убожеством: ноющий, писклявый звук, им извлекаемый, меньше мутантско-чиновничьего напоминает человеческую речь, и кажется, что берет начало не в легких и даже не в органах, а в чем-то потустороннем. Хлестаков мне омерзителен, а для чиновников он практически всемогущ. Эта амбивалентность кажется противоречивой: в связи с таким омерзительно-жалким Хлестаковым у каждого чиновника исчезает уверенность в своем будущем. Но у них хотя бы расставлены приоритеты – они понимают, в чьих руках их будущее существование, пусть его перспективы от этого и не становятся яснее. Хлестаков сомневается в своем сказочном настоящем – ему кажется, что этого не может происходить на самом деле. И ему тоже есть на кого ориентироваться, к кому обращаться. Зритель же не знает ничего. И зрительские сомнения имеют отношение ко всему происходящему на сцене.
Фрейд стремился локализовать неуверенность в рамках одного вопроса (На самом деле или не на самом деле?) и таким образом упразднить значение неуверенности. Если некоторая локализация имеет отношение к персонажам «Ревизора» – они знают у кого искать ответы, – то у зрителя интеллектуальная неуверенность имеет глобальный охват. Под сомнение попадает все. Зритель, не веря своему предварительному знанию, сомневается, например, в том, что Хлестаков ненастоящий ревизор. Под сомнение попадает Городничий – может, в спектакле Федорова в конце уедет Городничий, потому что он самозванец? Зритель нервно, если судить по смеху, пытается разобраться, в какой модальности происходит действие: чиновничья неуверенность в будущем, хлестаковская неуверенность в настоящем или же зрительская неуверенность во всем, но неуверенность, берущая начало в прошлом, когда зритель прочитал Гоголя.
К концу спектакля и чиновники, и Хлестаков испытали в итоге чувство жуткости. Чиновники – когда выяснили, что ревизор был ненастоящим, Хлестаков, когда стал подозревать вседозволенность и не мог разобраться с тем, что можно, а что нельзя, не веря в то, что ему в его модальности можно все. Но сейчас, пока этого на сцене еще не произошло, я и в этом сомневаюсь.
Фрейд стремился локализовать неуверенность в рамках одного вопроса (На самом деле или не на самом деле?) и таким образом упразднить значение неуверенности. Если некоторая локализация имеет отношение к персонажам «Ревизора» – они знают у кого искать ответы, – то у зрителя интеллектуальная неуверенность имеет глобальный охват. Под сомнение попадает все. Зритель, не веря своему предварительному знанию, сомневается, например, в том, что Хлестаков ненастоящий ревизор. Под сомнение попадает Городничий – может, в спектакле Федорова в конце уедет Городничий, потому что он самозванец? Зритель нервно, если судить по смеху, пытается разобраться, в какой модальности происходит действие: чиновничья неуверенность в будущем, хлестаковская неуверенность в настоящем или же зрительская неуверенность во всем, но неуверенность, берущая начало в прошлом, когда зритель прочитал Гоголя.
К концу спектакля и чиновники, и Хлестаков испытали в итоге чувство жуткости. Чиновники – когда выяснили, что ревизор был ненастоящим, Хлестаков, когда стал подозревать вседозволенность и не мог разобраться с тем, что можно, а что нельзя, не веря в то, что ему в его модальности можно все. Но сейчас, пока этого на сцене еще не произошло, я и в этом сомневаюсь.

Фрейдовские наблюдения проливают свет только на тот факт, что очень немногие вещи действительно незнакомы (неведомы). При детальном рассмотрении незнакомое распадается на привычные части: как плюшевый медведь с человеческими зубами. Незнакомые физические объекты по крайней мере подчиняются законам геометрии: любой предмет существует в пространстве. Мы можем представить себе пустое пространство, но не можем представить себе предмет вне (без) пространства. Зато когда сама геометрия становится бесправной, происходит что-то невообразимое, и возникает ощущение жуткости – черные дыры, к примеру.
На территории планеты Земля геометрия не утрачивает власти. Но в повседневной жизни мы наблюдаем за тем, как она следует каким-то определенным законам в которых мы убеждены. Мы не можем столкнуться с самими законами лицом к лицу – как мы не можем споткнуться о цифру три. Мы можем только наблюдать влияние этих законов на окружающий нас мир. Сами законы за пределами наших возможностей – мы с ними не можем познакомиться лично.
Мы не можем встретиться с Каравайчуком напрямую, но его голос и его импровизации дирижируют сценическим пространством. Оно как бы существует по закону Каравайчука. «Гоголь писал о дикарях», – ясно говорит голос Каравайчука, и именно в этой связи зритель вынужден разбираться в происходящем. Но сам Каравайчук вне сценического пространства, и голос его берет начало вне его – до нас долетает эхо.
Когда мы сталкиваемся с проявлениями законов, которые противоречат нашим представлениям о действительности, нам приходится ее переосмыслять. Говоря о «дикарях», я, к примеру, не подозревал, что Гоголь писал о дикарях, но в интерпретации Федорова я наблюдаю вероятность этого тезиса. И жутко мне становится от того, что я вижу проявления той силы, которая раньше была мне неведома. В большинстве случаев дальше сомнения в наличии или отсутствии этой неведомой силы мы не идем, но сам потенциал внушает жуть.
Когда дедушка Фрейд сталкивается с феноменом, который имеет потенциал быть оправданным силами сверхъестественного свойства, лежащих в основе мироздания, его охватывает чувство, которое он может описать только как чувство жуткости. (Фрейд описывал свое столкновение с дежавю.)
На территории планеты Земля геометрия не утрачивает власти. Но в повседневной жизни мы наблюдаем за тем, как она следует каким-то определенным законам в которых мы убеждены. Мы не можем столкнуться с самими законами лицом к лицу – как мы не можем споткнуться о цифру три. Мы можем только наблюдать влияние этих законов на окружающий нас мир. Сами законы за пределами наших возможностей – мы с ними не можем познакомиться лично.
Мы не можем встретиться с Каравайчуком напрямую, но его голос и его импровизации дирижируют сценическим пространством. Оно как бы существует по закону Каравайчука. «Гоголь писал о дикарях», – ясно говорит голос Каравайчука, и именно в этой связи зритель вынужден разбираться в происходящем. Но сам Каравайчук вне сценического пространства, и голос его берет начало вне его – до нас долетает эхо.
Когда мы сталкиваемся с проявлениями законов, которые противоречат нашим представлениям о действительности, нам приходится ее переосмыслять. Говоря о «дикарях», я, к примеру, не подозревал, что Гоголь писал о дикарях, но в интерпретации Федорова я наблюдаю вероятность этого тезиса. И жутко мне становится от того, что я вижу проявления той силы, которая раньше была мне неведома. В большинстве случаев дальше сомнения в наличии или отсутствии этой неведомой силы мы не идем, но сам потенциал внушает жуть.
Когда дедушка Фрейд сталкивается с феноменом, который имеет потенциал быть оправданным силами сверхъестественного свойства, лежащих в основе мироздания, его охватывает чувство, которое он может описать только как чувство жуткости. (Фрейд описывал свое столкновение с дежавю.)
У Фрейда речь идет о вещах сверхъестественных, но в контексте спектакля Федорова «метафизическое» и «сверхъестественное» – понятия взаимозаменяемые: это что-то, что обнажает механику мироздания. Чувство жуткости возникает, когда под вопросом оказываются наши убеждения о внешнем мире (и, вероятно, Гоголе). Мы оказываемся в положении, когда нам необходимо или пересмотреть то, что мы считаем правдой, или опустить инцидент, который обнажил нам механику мироздания как необъяснимый, фактически проигнорировав его. Если же мы идем первым путем, то мы должны сходу сформулировать новые законы упомянутой механики. «Ревизор» Федорова ставит под вопрос модальность происходящего на сцене: мы не можем понять объективная ли это действительность, извращенная фантазия Хлестакова, мировосприятие режиссера или что-либо еще. Фактически зритель сталкивается с проблемой скептицизма в отношении внешнего мира, где внешним миром выступает сценическое пространство. Но по крайней мере один зритель – в существовании других мне уже приходится сомневаться – примеряет происходящее на себя и видит схожесть своего положения как зрителя на спектакле Федорова и как человека в повседневной жизни.
Проблема скептицизма относительно внешнего мира ворвалась в философский дискурс с беспрецедентной силой в 1641 году после публикации «Размышлений о первой философии» Рене Декарта. В несколько измененном виде формулировка выглядит следующим образом:
Проблема скептицизма относительно внешнего мира ворвалась в философский дискурс с беспрецедентной силой в 1641 году после публикации «Размышлений о первой философии» Рене Декарта. В несколько измененном виде формулировка выглядит следующим образом:
[Условие 1] Для того, чтобы знать, что он сидит у камина, Декарт должен знать, что он не спит.
[Условие 2] Декарт не может знать, что ему не снится, что он сидит у камина.
[Вывод 1] Декарт не знает, что он сидит у камина. [У1, У2]
[Условие 3] Если Декарт не знает, что он сидит у камина, никто не знает ничего о внешнем мире.
[Вывод 2] Никто ничего не знает о внешнем мире. [В1, У3]
[Условие 2] Декарт не может знать, что ему не снится, что он сидит у камина.
[Вывод 1] Декарт не знает, что он сидит у камина. [У1, У2]
[Условие 3] Если Декарт не знает, что он сидит у камина, никто не знает ничего о внешнем мире.
[Вывод 2] Никто ничего не знает о внешнем мире. [В1, У3]
Мы ничего не можем знать о внешнем мире – когда нам об этом напоминают какие-то события, мы испытываем чувство жуткости. Именно второй вывод рождает его. На этапе второго условия его не возникает, потому что с ним удобно спорить. К слову, это самая распространенная тактика доказательства несостоятельности такой аргументации. Но современный скептик в ответ обычно делает ситуацию более драматичной и помещает бедного Декарта в Матрицу или делает из него мозг в контейнере, который стимулируют выдающиеся ученые. Хотя мне кажется, что и со сном трудностей хватает… Да и Федоров не заинтересован в решении этой проблемы: для него эта неоднозначность – одна из составных частей механики. Он находит ее в порядке вещей, воспринимает как данность. Это чем-то напоминает подход британского философа Д. Э. Мура, наравне с Расселом и Витгенштейном положившего начало аналитической традиции: (в парафразе) «У меня есть доказательство внешнего мира. Вот рука. Вот – другая». По сути, Мур смирился с тем, что ни у кого не получилось, что у него тоже не получится и засомневался в разумности всего предприятия. Доказательство Федорову тоже кажется неразумной тактикой, но его интересуют последствия недоказуемости, которую мы вместе с ним принимаем на веру, раз однозначной альтернативы до сих пор никто не нашел. Он задается вопросами: «Должны ли мы чувствовать ответственность за те поступки, которые мы неосознанно совершаем во сне? Актуальны ли во сне критерии морали?»
Вероятно, коль вопрос имеет место, ответ Федоров считает неочевидным. И действительно, если мы считаем проблему скептицизма относительно внешнего мира неразрешимой, то мы не можем определить, спим мы или бодрствуем. Мы должны чувствовать ответственность за свои поступки, если мы бодрствуем – с этим, вроде, большинство не спорит. Даже если мы не знаем, что бодрствуем, мы должны чувствовать ответственность за свои поступки. Но в этой связи, покуда мы не можем знать в какой парадигме находимся, нам следует брать ответственность за свои поступки вне зависимости от парадигмы, поскольку может оказаться, что мы бодрствуем. Безусловно, бывает, что находясь во сне, мы убеждены в том, что находимся во сне, но это не решает проблему скептицизма, равно как наша убежденность в бодрствовании во время бодрствования ее не решает.
Вероятно, коль вопрос имеет место, ответ Федоров считает неочевидным. И действительно, если мы считаем проблему скептицизма относительно внешнего мира неразрешимой, то мы не можем определить, спим мы или бодрствуем. Мы должны чувствовать ответственность за свои поступки, если мы бодрствуем – с этим, вроде, большинство не спорит. Даже если мы не знаем, что бодрствуем, мы должны чувствовать ответственность за свои поступки. Но в этой связи, покуда мы не можем знать в какой парадигме находимся, нам следует брать ответственность за свои поступки вне зависимости от парадигмы, поскольку может оказаться, что мы бодрствуем. Безусловно, бывает, что находясь во сне, мы убеждены в том, что находимся во сне, но это не решает проблему скептицизма, равно как наша убежденность в бодрствовании во время бодрствования ее не решает.
Не совсем корректно, пожалуй, думать о племенах коренных американцев в связи с фразой Каравайчука о дикарях, но она наталкивает на антропологический лад. Ответственность за поступки, совершаемые во снах, не беспрецедентная практика: некоторые культуры рассматривают такие действия с точки зрения морально-этической модели. То есть, если во сне сновидец причинил какие-то страдания другому члену племени, то он или она понесет за это наказание. Наказание, правда, не пропорционально деянию во сне: если, скажем, сновидец кого-то убила, в качестве наказания ее не казнят.
Хлестаковское поведение по меньшей мере неэтично: он все больше входит во вкус своего положения власти над чиновниками и этой властью злоупотребляет. Но зритель не может понять, как судить о его поступках, поскольку находится в неведении относительно парадигмы. Неразрешенность скептической проблемы наталкивает на еще большие возможности: если это сон – то чей? Происходящее вполне может быть кошмаром Городничего. Но если Городничий наблюдает игру своего сознания – эта игра подчиняется ему. Это Городничий в ответе за Хлестакова, и все поступки, совершаемые мнимым ревизором, дискредитируют не его, а Городничего. Но происходящее на сцене может быть и сном Хлестакова – тогда ответствует он. Но это может быть и действительностью – тогда каждый сам за себя?
Хлестаковское поведение по меньшей мере неэтично: он все больше входит во вкус своего положения власти над чиновниками и этой властью злоупотребляет. Но зритель не может понять, как судить о его поступках, поскольку находится в неведении относительно парадигмы. Неразрешенность скептической проблемы наталкивает на еще большие возможности: если это сон – то чей? Происходящее вполне может быть кошмаром Городничего. Но если Городничий наблюдает игру своего сознания – эта игра подчиняется ему. Это Городничий в ответе за Хлестакова, и все поступки, совершаемые мнимым ревизором, дискредитируют не его, а Городничего. Но происходящее на сцене может быть и сном Хлестакова – тогда ответствует он. Но это может быть и действительностью – тогда каждый сам за себя?

И тут случается знаменитый завиральный монолог Хлестакова. Он звучит человеческой речью и поначалу последователен: «Эх Петербург! что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете[…]» Но потом разрушается синтаксис, а с ним и семантика: «И сторож летит. […] Незаметно, но никак нельзя скрыться. […] Уж и говорят вон говорят. […] А один раз меня приняли даже. […] За главнокомандующего солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем». По истечении этого монолога Хлестакова охватывает непродолжительная жуткость. А язык также приобретает тройственность: (а) лишенный лексикона и синтаксиса, но имеющий семантику, поскольку зритель и персонажи знают смыслы наперед (как, бывает, происходит во снах); (б) лишенный семантики; и (в) знакомый нам русский язык. Но он вне сценического пространства.
В этом море противоречий и чередования тройственностей зрительские убеждения о понятности мира оказываются под вопросом, и он или она встает перед выбором игнорирования или формулировки нового закона. Без него невозможно продолжать воспринимать происходящее.
Этим законом выступает пустота, о которой спектакль и сделан, как следует из интервью Федорова журналу ТЕАТР. И с этого момента, то место, где спектакль играется, имеет значение. Дело в том, что тема пустоты (шунья) очень насущна для театра «Около». Юрий Погребничко, художественный руководитель, работает с ней на протяжении большей части своей жизни, выступая с позиций одного из направлений буддизма (Махаяна). В недавнем его спектакле «МАГАДАН/ кабаре/» звучит фраза «Говорить с пустотой – особая задача». В его «Трех сестрах» Москва выступает в качестве удаленного воплощения конкретики, а сестры вынуждены существовать в пустоте и пройти некий духовный путь, чтобы пустоту принять. Погребничко и его студенты, коим является Федоров, на сценах «Около» работают с пустотой, и это имеет отношение и к воздействию на зрителя, и к актерскому существованию, и к возможным тематикам. Не всегда в театре «Около» идут спектакли о самой пустоте – зачастую через работу с ней рассматриваются другие проблемы. Юрий Николаевич явно размышляет о вечном и трудноопределимом, часто о человеке – ему пустота в той или иной степени понятна. Федорову же интересно разобраться в ней, поэтому он и делает спектакль о ней, используя разные подходы.
В этом море противоречий и чередования тройственностей зрительские убеждения о понятности мира оказываются под вопросом, и он или она встает перед выбором игнорирования или формулировки нового закона. Без него невозможно продолжать воспринимать происходящее.
Этим законом выступает пустота, о которой спектакль и сделан, как следует из интервью Федорова журналу ТЕАТР. И с этого момента, то место, где спектакль играется, имеет значение. Дело в том, что тема пустоты (шунья) очень насущна для театра «Около». Юрий Погребничко, художественный руководитель, работает с ней на протяжении большей части своей жизни, выступая с позиций одного из направлений буддизма (Махаяна). В недавнем его спектакле «МАГАДАН/ кабаре/» звучит фраза «Говорить с пустотой – особая задача». В его «Трех сестрах» Москва выступает в качестве удаленного воплощения конкретики, а сестры вынуждены существовать в пустоте и пройти некий духовный путь, чтобы пустоту принять. Погребничко и его студенты, коим является Федоров, на сценах «Около» работают с пустотой, и это имеет отношение и к воздействию на зрителя, и к актерскому существованию, и к возможным тематикам. Не всегда в театре «Около» идут спектакли о самой пустоте – зачастую через работу с ней рассматриваются другие проблемы. Юрий Николаевич явно размышляет о вечном и трудноопределимом, часто о человеке – ему пустота в той или иной степени понятна. Федорову же интересно разобраться в ней, поэтому он и делает спектакль о ней, используя разные подходы.
Краеугольным камнем – основой механики спектакля – выступает доктрина пустотности. Именно с ее помощью объясняется и оправдывается положение вещей в буддизме. Она сформировалась из убеждения о том, что человеческое восприятие отличается от действительного положения вещей. Людям, например, свойственно видеть в вещах и самих себе некоторую независимую сущность, которая может существовать (и, согласно такому взгляду, благополучно существует) отдельно от всего остального. Буддизм же видит в этом фундаментальное заблуждение, ориентируясь на следующее противоречие: если все объекты (как материальные, так и умозрительные) самобытны, имеют завершение в самих себе, то решительно непонятно, каким образом происходит взаимодействие между этими объектами – как один законченный и неизменный объект может повлиять на другой. Ситуацию с такого рода эссенциализмом можно доводить до абсурда: если вещи завершены в себе, нам приходится отказаться от идеи причинно-следственной связи.
Гьяцо Тензин (Далай-лама XIV) в своей книге «Вселенная в одном атоме: Наука и духовность на служении миру» пишет: «Все содержание мира представляет собой взаимодействующие объекты, не имеющие в себе какой-либо неизменной сути и пребывающие в процессе непрерывного изменения. Вещи и события «пусты» именно в смысле отсутствия этой неизменной, по их собственной природе присущей им сути, или абсолютного бытия, наличие которого сделало бы их независимыми» [1].
Гьяцо Тензин (Далай-лама XIV) в своей книге «Вселенная в одном атоме: Наука и духовность на служении миру» пишет: «Все содержание мира представляет собой взаимодействующие объекты, не имеющие в себе какой-либо неизменной сути и пребывающие в процессе непрерывного изменения. Вещи и события «пусты» именно в смысле отсутствия этой неизменной, по их собственной природе присущей им сути, или абсолютного бытия, наличие которого сделало бы их независимыми» [1].
Говоря о персонажах пьесы Гоголя в спектакле Федорова, мы получаем соответствующую картину: поведение чиновников обусловлено присутствием Хлестакова и их представлениям о нем. Все его свойства связаны с его взаимодействием с ними. Это они наделяют его свойствами ревизора, а не его сущность влияет на них. Они находятся в позиции обоюдной зависимости – Хлестаков от них зависим уже в самом тексте. Но их взаимодействие также вклинивается зритель, которому (уже) тройственность кажется противоречивой хотя бы потому, что у чиновников и зрителя разительно противоположные представления о Хлестакове. Как может такое ничтожество, как он, иметь такую власть над этими чиновниками-мутантами?
Зависит, понятно, от личности воспринимающего – то есть тройственность упирается в эффект наблюдателя. Хлестаков сродни электрону, который в зависимости от способа наблюдения обладает свойствами как частицы, так и волны. Под наблюдением зрителя он ничтожен, под наблюдением чиновников – всемогущ.
Это скрепляет зрительские убеждения (относительно себя, чиновников и Хлестакова) в единую картину, оправдывает противоречивость. Такая система координат позволяет сну и реальности сосуществовать, и опираясь на нее, мы можем формулировать законы той уже единой действительности, которую мы наблюдаем и примеряем на свое положение в повседневной жизни.
Тем более, что подход пустотности вполне соответствует нашим убеждениям о законах физики. Интерес австрийского физика Антона Зайлингера «к диалогу с буддизмом состо[ял] в сравнении теоретических положений квантовой физики с буддийской философией, поскольку оба эти направления мысли, по его мнению, ведут к отрицанию представления о независимой объективной реальности» [2].
Зависит, понятно, от личности воспринимающего – то есть тройственность упирается в эффект наблюдателя. Хлестаков сродни электрону, который в зависимости от способа наблюдения обладает свойствами как частицы, так и волны. Под наблюдением зрителя он ничтожен, под наблюдением чиновников – всемогущ.
Это скрепляет зрительские убеждения (относительно себя, чиновников и Хлестакова) в единую картину, оправдывает противоречивость. Такая система координат позволяет сну и реальности сосуществовать, и опираясь на нее, мы можем формулировать законы той уже единой действительности, которую мы наблюдаем и примеряем на свое положение в повседневной жизни.
Тем более, что подход пустотности вполне соответствует нашим убеждениям о законах физики. Интерес австрийского физика Антона Зайлингера «к диалогу с буддизмом состо[ял] в сравнении теоретических положений квантовой физики с буддийской философией, поскольку оба эти направления мысли, по его мнению, ведут к отрицанию представления о независимой объективной реальности» [2].
Для физиков и буддистов, как для Федорова и Мура, проблема скептицизма о внешнем мире несущественна. Они через нее переступают. «Отмена принципа строгого разделения субъекта и объекта» (Тензин) свойственны и буддистскому релятивизму, и квантовой механике, и спектаклю Федорова. Принимая доктрину пустотности, зритель берет ответственность за происходящее на себя: Хлестаков и чиновники непременно от него зависят.
Но даже доктрина пустотности не объясняет нам спектакля полноценно, поскольку в его канве появляется, казалось бы, новая сущность. Из того же внешнего пространства звучит песня группы «Мумий-тролль» «Дельфины» и окрашивает сценическое пространство анимированной проекцией о взаимодействии людей (видеохудожник Наташа Федотова). Это сначала даже сбивает, но в следующей сцене Городничий произносит пару фраз на человеческом языке – ровно тогда, когда начинает подозревать в Хлестакове самозванца и испытывает от этого сомнения жуткость. То есть в «Ревизоре» язык выступает той сверхъестественной силой, чья личина была от нас скрыта до «Дельфинов»: мы встречаемся с ее образом лицом к лицу. Это своего рода языковой экстернализм.
К слову, у американского философа Хилари Патнама есть очень красивое доказательство существования внешнего мира через анализ языковых высказываний [3]. Доказательство можно считать успешным, если мы готовы принять другую скептическую проблему: мы никогда и ни при каких обстоятельствах не поймем, имеет ли наш мыслительный процесс и язык смысл. Исходя из спектакля Федорова и согласно Патнаму смысл находится вне нашего эмпирического восприятия. Знаменитая фраза Патнама «Смысл тупо не в башке» (meaning just ain't in the head) выражена в спектакле тем, что язык – главный смысловой механизм – берет начало вне сцены, поскольку звучит в записи через колонки. Но смысл так же и не во внешнем мире. Он вне нас и вне мира.
Но Федоров касается удивительно жизнеутверждающего аргумента в пользу замены картезианского скептицизма на патнамский. Язык может оставаться логичным даже если он бессмыслен, как это происходит с монологом Хлестакова, поскольку в нем сохраняется лексикон и синтаксис. И это существенно по той причине, что упраздняет все мнимые (как теперь кажется) противоречия релятивизма и квантовой механики.
Исследуя философские последствия того, что электрон обладает свойствами волны и частицы в зависимости от способа наблюдения, Тензин пишет:
Но даже доктрина пустотности не объясняет нам спектакля полноценно, поскольку в его канве появляется, казалось бы, новая сущность. Из того же внешнего пространства звучит песня группы «Мумий-тролль» «Дельфины» и окрашивает сценическое пространство анимированной проекцией о взаимодействии людей (видеохудожник Наташа Федотова). Это сначала даже сбивает, но в следующей сцене Городничий произносит пару фраз на человеческом языке – ровно тогда, когда начинает подозревать в Хлестакове самозванца и испытывает от этого сомнения жуткость. То есть в «Ревизоре» язык выступает той сверхъестественной силой, чья личина была от нас скрыта до «Дельфинов»: мы встречаемся с ее образом лицом к лицу. Это своего рода языковой экстернализм.
К слову, у американского философа Хилари Патнама есть очень красивое доказательство существования внешнего мира через анализ языковых высказываний [3]. Доказательство можно считать успешным, если мы готовы принять другую скептическую проблему: мы никогда и ни при каких обстоятельствах не поймем, имеет ли наш мыслительный процесс и язык смысл. Исходя из спектакля Федорова и согласно Патнаму смысл находится вне нашего эмпирического восприятия. Знаменитая фраза Патнама «Смысл тупо не в башке» (meaning just ain't in the head) выражена в спектакле тем, что язык – главный смысловой механизм – берет начало вне сцены, поскольку звучит в записи через колонки. Но смысл так же и не во внешнем мире. Он вне нас и вне мира.
Но Федоров касается удивительно жизнеутверждающего аргумента в пользу замены картезианского скептицизма на патнамский. Язык может оставаться логичным даже если он бессмыслен, как это происходит с монологом Хлестакова, поскольку в нем сохраняется лексикон и синтаксис. И это существенно по той причине, что упраздняет все мнимые (как теперь кажется) противоречия релятивизма и квантовой механики.
Исследуя философские последствия того, что электрон обладает свойствами волны и частицы в зависимости от способа наблюдения, Тензин пишет:
« [В]месте с тем этот парадокс демонстрирует – если только мы не признаем наличия у электрона некоторого рода собственного сознания, – что при рассмотрении на субатомном уровне, по всей видимости, нарушаются два самых основных закона логики: законы противоречия и исключенного третьего» [4].
Но мы при этом должны отдавать себе отчет в том, что законы логики нерушимы. Собственно только их нерушимость и наша глубокая убежденность в этом позволяют нам видеть в двойственности электрона что-то грандиозное. Естественно, что частица и волна – это не одно и то же. Но знаменитый опыт не ставит это под сомнение. Тензин рассматривает проблему, используя приблизительно следующий механизм: A≠Б; (…) А=В; Б=В=>А=Б. Но речь идет о свойствах, а не идентичности. Электрон остается электроном, как Хлестаков не становится ревизором в конце спектакля Федорова. Я имею свойство ходить в театр «Около» на спектакли; но я ровно так же имею свойство не ходить в театр «Около» на спектакли. В этом нет никакого противоречия. И противоречия в том, что я могу спать и не спать – нет. Неуверенность возникает, когда мы не можем определить, на что уповать: на логику (когда мы в действительности) или на смыслы (когда мы во сне). Пустоту мы заполняем смыслами, поскольку они не занимают пространства. А логика остается в любой действительности, даже если мы не знаем, что в данный момент не ее воспринимаем.
~
А я уже дома в постели… Утро. Вероятно, второй просмотр спектакля мне приснился. Что, впрочем, не говорит о том, что я не посмотрел спектакль Федорова во второй раз.
1
См: Тензин, глава 3.
2
См: Тензин, глава 3.
3
См: Putnam «Brains in Vats».
4
См: Тензин, глава 3.